Неистовая страсть к размышлениям
Материал любезно предоставлен Jewish Review of Books
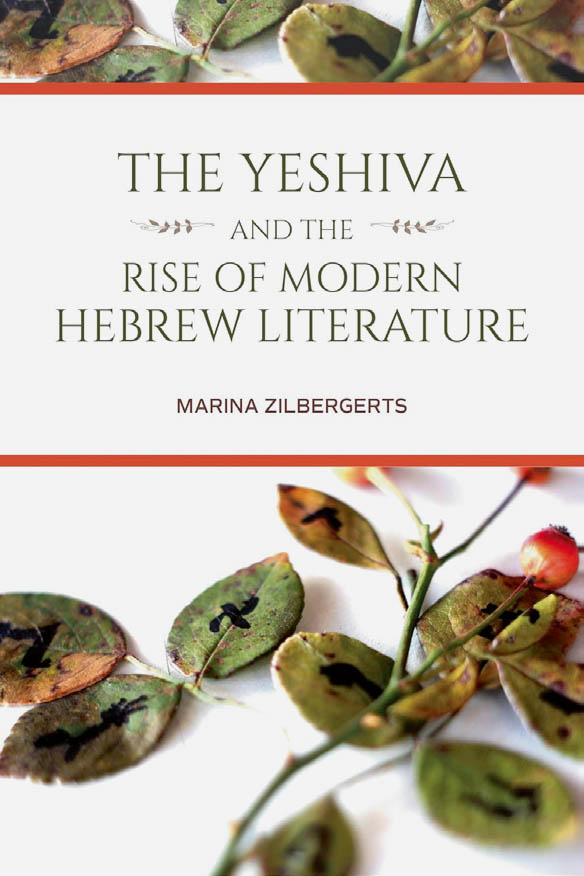
Marina Zilbergerts
The Yeshiva and the Rise of Modern Hebrew Literature
[Ешива и взлет современной ивритской литературы]
Indiana University Press, 2022. — 184 p.
Однажды на Пурим, давным‑давно, еще в ешиве, я нарядился в пиджак с кожаными заплатками на локтях, взял в руки курительную трубку и прихватил зачитанное издание ивритской поэмы Бялика «А‑масмид» («Подвижник»). Поэму я декламировал так, как она звучала изначально, — с ашкеназским выговором. Ничего скандального в моем маскарадном костюме не было, но мои однокашники в черных шляпах все равно неловко ежились и нервно хихикали, ошарашенные несообразностью: в коридоре ешивы — и вдруг лохматый, с непокрытой головой (я надел парик — этакий профессорский тупей) маскил. Однако истинный юмор ситуации был в том, что 100 лет назад таких маскилов, как Бялик, вы нашли бы именно в ешиве. А мой маскарад — совсем как у детей в пуримских нарядах принцесс или панк‑рокеров — естественно, скорее обнажал, а не скрывал мой внутренний мир. Превращение из ешивского бохура в поэта (или профессора) может казаться (как казалось тогда мне) радикальным разрывом с прошлым. Но так ли это на самом деле?
Как современная ивритская литература внезапно возникла из полумертвого семитского языка — языка, который тогда еще не был по‑настоящему разговорным? И как нам рассматривать взаимосвязи между преимущественно религиозной досовременной ивритской литературой и секуляризированными современными ивритскими стихами, эссе, романами и мемуарами — всеми теми текстами, которые восточноевропейские евреи начали писать во второй половине XIX века? Либо, если ставить вопрос в контексте биографий, как нам трактовать две основные фазы в жизни этих современных ивритских писателей, протекавшие, соответственно, в стенах ешивы и за ее пределами?
Исход учеников ешив из промозглых домов учения в кипучие столицы европейских стран, путь из воложинского бейт мидраша в одесские кофейни, — один из ключевых нарративов современной ивритской литературы. В ивритской филологии преобладает мнение, что это рождение литературы было полным разрывом с традиционным прошлым и шагом вперед к секулярной еврейской культуре или бурно развивавшемуся в ту пору сионистскому движению. Исследователи признают связи между традиционной еврейской ученостью и современной ивритской литературой, но обычно на них не фокусируются. Сторонники крайней позиции полагают, что проект создания современной ивритской литературы похож на иврит досовременного периода не больше, чем Tractatus Спинозы на трактаты Талмуда — в смысле, их объединяет лишь название.
Марина Зильбергертс в книге «Ешива и взлет современной ивритской литературы» — краткой монографии со смелыми тезисами — утверждает, что возможна и другая трактовка. Она полагает: хотя в конце XIX века и начале XX столетия ивритская литература и ее авторы претерпевали сложные метаморфозы, происходило что‑то вроде алхимического сохранения энергии. Конечно, новое применение священного, ученого языка — для создания литературы, которая была политически ангажированной, в некоторых случаях чувственной и частенько преступавшей общественные нормы, — было революционной затеей. И все же, уверяет Зильбергертс, невзирая на то, что тематика и общее содержание новой ивритской литературы сместились к секулярности, «зародилась эта революция в мире традиции»: раввинистический идеал чистого интеллектуального служения даже самым малоизвестным традиционным текстам подвергся обмирщению — превратился в радикальный обет писать прозу безукоризненно чистым стилем на мало кому доступном языке. Масмид («не смыкая глаз зимней ночью, триумфально разрешить задачу, иссушившую его мозг, — вот в чем его отрада» ) превращается в ивритского писателя, мучительно шлифующего строки, чтобы триумфально отобразить мир и осовременить иврит.
Книга «Ешива и взлет современной ивритской литературы», к счастью, обходится без заумной терминологии; правда, Зильбергертс употребляет одно модное словечко: «аутотелический» (тот, чьи цели находятся внутри него, а не по отдельности от него), чтобы дать четкое наименование этой разновидности интеллектуального благочестивого рвения. Весьма интересно, что автор сравнивает идеи и лозунги европейского аутотелизма (самым громким был призыв «искусство ради искусства») с восточноевропейским пониманием раввинистического идеала «Тора лишма» как изучения Торы ради самой Торы. Выявление этого предполагаемого общего знаменателя вовсе не значит, что тезис Зильбергертс — незамысловатая формула. Во‑первых, аутотелизм, этот первоначальный движитель современной ивритской литературы, ненадолго стал для нее тяжелейшей обузой, когда чуть ли не главным мерилом литературной ценности сделалась польза произведений для общества. Более того, ешивская концепция изучения Торы ради самой Торы и институциональная обстановка крупных восточноевропейских ешив, где поощрялась эта концепция, не вполне соответствовали традиционной позиции (первоначально словосочетание «Тора лишма» означало всего лишь изучение Торы по чистым, религиозным мотивам) и, отнюдь, сами были современной новацией. Хотя аргументы Зильбергертс вынуждены учитывать зигзаги исторического развития, ее тезис сохраняет подкупающую простоту. То, что в Восточной Европе современная ивритская словесность оказалась долговечной, современной литературой, — отчасти заслуга неутомимого традиционалистского служения ее первых авторов своему делу.

«Ешива и взлет современной ивритской литературы» начинается с панорамного обзора великих восточноевропейских ешив XIX века, особенно «Ешивас Эц Хаим» в белорусском городе Воложине, основанной в 1803 году учеником Виленского Гаона равом Хаимом . Воложинская ешива и подобные ей институты представляли собой религиозные структуры, выстроенные на фундаменте многовековой раввинистической учености, но в некоторых отношениях знаменовавшие нечто совершенно новое. Прежде восточноевропейские ешивы в большинстве случаев врастали в социальную ткань общин — общин со своими, местными раввинами, мелочными политическими интригами и шаткой экономикой. Но по мере того как ешивы становились крупнее и приобретали громкую репутацию, они до некоторой степени обретали независимость, которая создавала дистанцию между школярами и горожанами и воспитывала надменность, этакий менталитет «башни из слоновой кости», выше всего ставящий нерушимую преданность школяров делу изучения замысловатых талмудических текстов.
Такие ешивы не были профессиональными училищами по подготовке раввинов и не вкладывали энергию в вынесение постановлений по практическим вопросам еврейского закона. Непрактичность была в каком‑то плане целью их существования. Метафизика «Тора лишма» предполагает, что занятия божественным текстом — деятельность космического размаха, своего рода ось, на которой вращается космос. По сути, это было гипербуквальное толкование «первого пункта» изречения из Мишны: «На трех вещах стоит мир — на Торе, на служении и на добрых делах». Оно породило методы, поразительно схожи с монашескими практиками, например непрерывную учебу посменно, весь день и всю ночь, ведь только такой график гарантирует существование мира.
У этой романтической схоластики были свои страстные приверженцы и теоретики, но и в ешивах, и снаружи она навлекала на себя критику. Маскилим начиная с XVIII века агитировали против сверхусердного изучения Талмуда, утверждая, что оно навязывает еврейской общине мрачный средневековый образ мысли и препятствует эмансипации и интеграции евреев. Были и опасения из‑за финансов: кто и как долго будет поддерживать и кормить масмида?
Зильбергертс отслеживает творческий путь и ключевые произведения пяти молодых талантов в тот период, когда они покинули ешиву, попытались вырваться на свободу и на протяжении всех этих метаморфоз изливали переживания в текстах на блистательном, словно бы инкрустированном драгоценностями иврите. Мы знакомимся с братьями Ковнер — Авраамом‑Урией (1842–1905) и Ицхаком‑Айзиком (1840–1891), чьи перья были острее сабель; с Моше‑Лейбом Лилиенблюмом (1843–1910), чей роман «Грехи юности» («Хатаот неурим») сыграл основополагающую роль и помог сформировать модель будущих мемуаров в поджанре off‑the‑derekh ; с ницшеанцем‑гебраистом Михой‑Йосефом Бердичевским (1865–1921), окончившим воложинскую ешиву; а также, наконец, с крупнейшим ивритским поэтом прошлого века Хаимом‑Нахманом Бяликом (1873–1934): тот решил учиться в Воложине, вычитав у Бердичевского (правда, приукрашенное) описание этой ешивы как рассадника вольнодумства. Спустя несколько лет Бялик напишет свой гимн «Подвижнику»: герой поэмы олицетворяет старый дух воложинеров, одновременно указывая на новорожденную ивритскую литературу.

Зильбергертс вносит в биографии этих пяти мужчин (женщин в современную ивритскую литературу почти не допускали ввиду их традиционной маргинализации в сфере раввинистической учености) сюжет, соответствующий философии Гегеля: тезис, в данном случае служение литературе, вытесняется антитезисом — материализмом, а противоречие между тезисом и антитезисом преодолевается в синтезе , достигнутом в нелегкой борьбе. По утверждению Зильбергертс, даже когда классические ивритские тексты избавились от чар религиозности, новая ивритская литература, будучи набором еврейских текстов, отчасти сохранила былое волшебство.
Жизнь в ешиве и еврейская жизнь в целом давали богатую пищу воображению: они изобиловали вымыслами (в основном юридического толка) и ставили священные тексты, приводимые в доказательство аргументов, выше, чем прозаичную реальность. (Знаменитый идишский [и ивритский] писатель Менделе Мойхер‑Сфорим высмеял это в истории о мевинах из штетла: впервые в жизни увидев сочный экзотический фрукт, они обратились к священным книгам, чтобы подтвердить его реальность.) Даже когда начинающие еврейские писатели забросили раввинистическую ученость и посвятили себя новооткрытым светским занятиям, они по‑прежнему читали запоем, а свои новые, обворожительные словесные кружева плели на осовремененной версии раввинистического иврита. Так мы обрели незабываемый образ, нарисованный Бердичевским: юноша, который раньше был благочестивым учеником ешивы, снова предается ночным бдениям за книгами, и разница лишь в том, что теперь он корпит над секулярной ивритской литературой.
Антитезис не заставил себя долго ждать — вначале проявился в том, что живот подвело от голода, а кладовая опустела. Покинуть ешиву значило выпасть из ее системы финансовой поддержки, но писательство на языке, востребованном лишь у горстки читателей, не могло вас прокормить. То были не просто личные сложности отдельных людей, но и нарастающая общественная проблема. В течение второй половины XIX века критика мира ешив, обусловленная материалистическими соображениями (собственно, маскилим годами оттачивали эти критические стрелы), наполнилась радикальными новыми идеями, перенятыми у новоявленных молодых русских интеллигентов, так называемых нигилистов. Теперь считалось, что главное — реальный, приземленный мир с его желаниями и потребностями, а не пильпулистические «башни, парящие в воздухе».
Русские нигилисты предпочитали прозу, а не поэзию, и не терпели эстетики, утверждая, что важнейшая задача новой, реалистической литературы — не блистать художественным талантом, а приносить пользу для дела революции. Если современная ивритская словесность пленяла в основном строгой красотой и богатой многослойностью, к чему ее можно было приспособить в этой системе ценностей? Если предназначение литературы — ответить на вопрос «Что делать?» из названия знаменитого романа Николая Чернышевского, то восточноевропейским еврейским писателям, уж наверное, следовало бы писать на языке читательских масс, то есть на идише или даже на русском, на языке тех, кто живет на земле, а не на языке элиты, ученых мужей.
Интеллектуалов с ешиботским прошлым, а они начали читать запоем нигилистические памфлеты с тем же смаком, как раньше глотали раввинистическую литературу, снедало воодушевление и нетерпение. Лилиенблюм сравнил еврейских писателей и интеллектуалов с их русскими коллегами:
«Пока интеллектуальный мир русских сотрясают свежие идеи Чернышевского и Писарева, наши почтенные писатели сидят, пачкая руки чернилами, и пытаются шокировать мир банальными разъяснениями Священного писания, корпя над древней книгой, которая уже рассыпается — и переплет ее рассыпается в прах, и мысли… Дайте нам хлеба! Дайте нам живого воздуха!»

Зильбергертс проводит интригующие параллели между новыми ивритскими писателями и некоторыми русскими нигилистами, тоже взращенными ортодоксальной — русской православной — образовательной системой, где школяры практиковали что‑то вроде пильпуля в христианском варианте («все сто форм софизмов и паралогизмов» , как назвал это тогдашний молодой русский писатель Николай Помяловский). Зильбергертс также хорошо передает болезненные, самоубийственные нелепости ивритской полемики, направленной против ивритской литературы. Как отмечает Зильбергертс, то, что Лилиенблюм «порвал с еврейскими обрядами и ортодоксальной общиной, повлияло на писателя поразительно мало. Нет… главная драма… в том, что Лилиенблюм утратил веру в тексты и в ценность занятий литературой».
Если бы братья Ковнер добились своего, современная ивритская словесность просуществовала бы лишь при жизни одного поколения. Когда старший брат, Ицхак‑Айзик, понял, что ивритская литература никогда не достигнет конкретных целей, диктуемых материализмом, — не обеспечит достойную еврейскую жизнь путем труда и доставления средств к существованию, то написал о своих собратьях, ивритских писателях, горькие слова: «их единственная мечта и желание — писать все больше и больше книг без конца, без цели, ублажающих разве что их самолюбие». Интересно, что именно череда штормовых волн европейской интеллектуальной жизни и разочарования после расставания с ешивой покончили с модой на нигилизм и помогли кораблю ивритской литературы снова лечь на верный курс. В конце XIX века наряду с другими переменами возродился интерес к религиозной традиции и символике — их высоко оценили, сочтя сокровищницей свежих возможностей для творчества. Также появилось яркое, пугающее мировоззрение Фридриха Ницше: оно впрыснуло жизненную энергию в жилы писателей, принадлежавших к разным литературным традициям, в том числе к ивритской.
С наступлением fin de siècle ивритские писатели скоро очнулись от недолгих, скучных снов об утилитаризме литературы. В любом случае новая жизнь в таких мекках материализма как Одесса принесла им огромное разочарование. «Просвещенность большого города, — писал Лилиенблюм, — пронизана духом модной свободы — детищем коммерции и гедонизма, основанным на самообмане, а не на внутренней просвещенности, которую дают глубокие размышления».
Лилиенблюму удалось застолбить для себя прочную позицию, в рамках которой могли сосуществовать труд и «дивная новая мирская» Тора. В переделанной Мишне, перемешав материализм с видоизмененной теологией «Торы лишма», Лилиенблюм сочинил новую раввинистическую максиму и приписал ее Элише бен Абуе, крупнейшему еретику раввинистического периода:
«На трех вещах стоит мир: на Торе, на труде и на делах милосердия. А Элиша бен Абуя говорит: “На Торе и на труде”. Заселение мира [ешуво шель олам] подобно его сотворению. Он [мир] сотворен Торой и трудом; следовательно, заселять его тоже следует посредством Торы и труда».
Со своей стороны, Бердичевский писал на иврите изумительные прозаические зарисовки, воспевая — впрочем, в конечном итоге осуждая, — преданное служение еврейским текстам, которое он назвал «неистовой страстью к размышлениям, живущей в сердце еврейского мальчика… правдивым портретом человека, доводящего себя до смерти в шатре знания». Бердичевский боролся за ницшеанское второе рождение еврейской души, которое возьмет верх над таким чисто книжным мировосприятием, — боролся, но продолжал верить в потенциальную силу страстной ивритской словесности.
Из всех писателей, рассмотренных в «Ешиве и взлете современной ивритской литературы», Зильбергертс наиболее сочувствует Бялику: он, как и все остальные, прошел нелегкий путь, но в конечном итоге разработал эффективный синтезис, обеспечивший будущее современной ивритской литературе. Зильбергертс трактует поэму «А‑масмид» и ее создание как героическую попытку преодолеть хотя бы часть минных полей, на которые натолкнулась ранняя современная ивритская словесность. Так, она отмечает, что в одном из ранних вариантов поэмы Бялик обыграл выражение, которое сделал крылатым более ранний поэт‑маскил Иеуда‑Лейб Гордон :
Для кого ты трудишься, заблудший, несчастный брат?
Твой труд запоздал; пора твоей работы миновала.
Твое поле выжжено; твой луг стал солончаком.
Но эта критика традиционной еврейской жизни, продиктованная материалистической позицией, не включена — что весьма симптоматично — в более пространный окончательный вариант поэмы.
Зильбергертс также истолковывает строку, где описывается порыв ветра, искушающий прилежного героя поэмы («…запляшет <…> пред ним ветерок, и пейсики гладит, и ласкою пашет» ), как отклик на нараставшее стремление сионистов изменить восточноевропейских евреев, чтобы вместо бледных усердных учеников появились крепкие здоровяки. В поэме Бялика школяр успешно прогоняет ветер соблазна, продолжает корпеть над поучениями мудрецов и в конце концов должен обрести свое истинное предназначение, сделавшись «фабрикой душ для нации», то есть для формирующейся нации Израиля с ее новой светской ивритской литературой.
В понимании Зильбергертс «А‑масмид» превращается в великую эпопею о преображении, где затхлые, казалось бы, слова из Талмуда, слова из прошлого, такие, как «привычный напев матмида — “Ой, ой омар Рава, ой омар Абай!” — уже не монотонная декламация слов давно умерших мудрецов. Этот рефрен становится свидетельством Бялика о непреходящей живучести интеллектуального начинания законоучителей Талмуда». Теперь те же слова указывают путь к обновлению ивритской литературы. Как выражает эту мысль Бялик, «он точно знает, как школяры жили в старину, он точно знает, что его день славы придет».
Трактовка, которую Зильбергертс дает таким первопроходцам современной ивритской литературы, как Лилиенблюм и Бялик, не уступает по изяществу некоторым текстам современной ивритской литературы, которые она анализирует. Она пишет прозрачно и лаконично, ее книга никогда не вязнет в полемике с вторичными источниками и ненужных ссылках на первоисточники. Изредка это приводит к огрехам: например, когда Зильбергертс излагает эволюцию текста «А‑масмида», иногда проигнорированы факты филологического толка, изложенные в критическом издании поэмы, составленном Дэном Майроном. Кроме того, Зильбергертс не интересуется поиском выявленных ею аутотелических черт в других текстах и жанрах, повлиявших на современную ивритскую литературу, — ни в хасидских притчах, ни в маскильских сатирах, ни в неоязыческих провокативных произведениях.
Вместо этого, словно ученик ешивы, всецело сосредоточенный на чтении Талмуда, Зильбергертс пропускает мимо ушей фоновый шум и заостряет наше внимание на сути дела, касающейся текстов. Уоллес Стивенс описал в стихах затихший дом и спокойный мир, где все заботы куда‑то отступили, и «читатель обратился в книгу» . Бялик описывает, как масмид сидит над книгами спозаранку, в час прохлады: «Заря, сад, зачарованные поля пропали из виду, исчезли, словно облако, унесенное ветром, и земля и все ее изобилие позабыты. Земля и все ее изобилие собраны здесь».
Оригинальная публикация: The Fierce Lust for Contemplation

Шедевр переводчика

Поэт печали, гнева и любви

