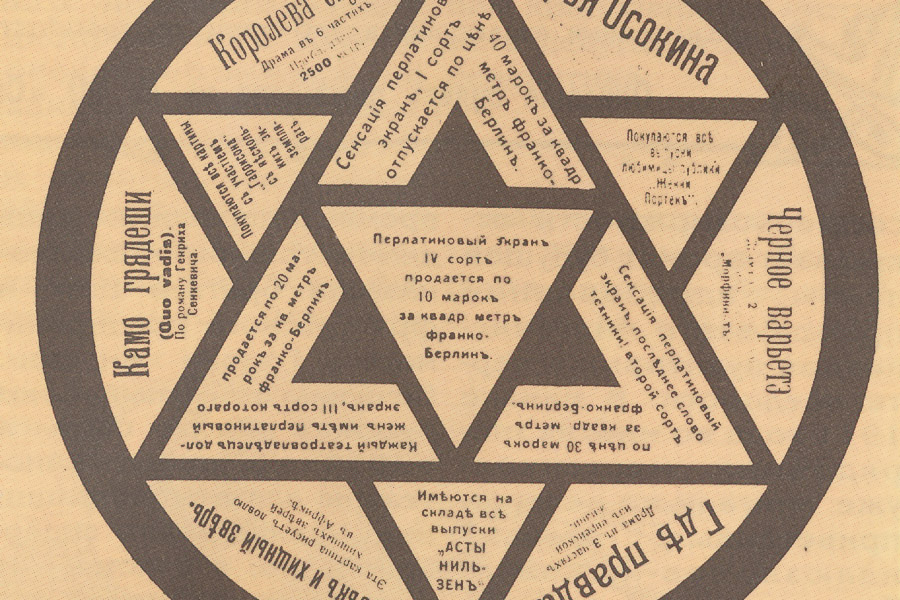Валерий Тодоровский: «В моем детстве идиш был абсолютной нормой»
Сюжет нового фильма Валерия Тодоровского «Одесса», вышедшего в сентябре в российский прокат, построен на реальной истории: речь идет об эпидемии холеры в Одессе в 1972 году. Успешный столичный журналист (его сыграл Евгений Цыганов) прилетает с сыном в Одессу к тестю с тещей — Раисе Ировне и Григорию Иосифовичу Давыдовым (Ирина Розанова и Леонид Ярмольник), потому что ребенку надо на море. И тут начинается холера, миллионный город закрывают на карантин, и герой оказывается заперт в этом городе, в старом доме, вместе с говорящими на идише родителями жены, собственным ребенком и старшими дочерьми Давыдовых (Ксения Раппопорт и Евгения Брик), приехавшими вместе с мужьями в Одессу погостить.

Это очень нежная ностальгическая картина о городе, который для многих существует как миф. А Валерий Тодоровский здесь родился, вырос, был свидетелем холерной эпидемии. И в фильме есть мальчик Валерик, примерно его ровесник. Узнаваемыми кажутся многие персонажи картины, о которой ее автор рассказал журналу «Лехаим».
ИРИНА МАК → Кажется, что вы придумали этот фильм очень давно.
ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВСКИЙ ← Идея у меня была всегда, еще со ВГИКа, — сделать кино о том, как в Одессе была холера, потому что я ее застал, мне было десять лет.
ИМ → Это было детское потрясение?
ВТ ← Нет, конечно, потрясение — это когда, не дай Б‑г, кто‑то умер на твоих глазах. А холера — это было воспоминание, очень яркое. Как мы идем по городу и какие‑то солдаты стоят, или жара дикая, а нас не пускают на пляж, или все вокруг берут помидоры или персики и поливают их кипятком. Надо понимать, что август в Одессе — время, когда все ломится от овощей и фруктов, а тут закрытый Привоз. Помню людей вокруг, которые поначалу были очень напуганы, а потом плюнули и стали жить на полную катушку — и руки не мыли, и делали что хотели. Эти воспоминания у меня были очень давно, я думал: «Это вообще круто — сделать про одесскую холеру. Пир во время чумы, но одесский — легкий».
ИМ → Условный «Амаркорд»?
ВТ ← Изначальные мои мотивы — конечно, «Амаркорд». В том смысле, что у каждого режиссера должен быть свой «Амаркорд». Что у меня есть? Мое одесское детство, и мои воспоминания, и двор, и родственники, и соседи, и какой‑то мир ушедший, утерянный давно, и этот город, который на самом деле давно другой. Но «Амаркорд» не может быть абстрактным, там должно что‑то происходить.
ИМ → Потому что живые люди.
ВТ ← И эти люди должны попадать в какие‑то обстоятельства и как‑то себя проявлять. Мне всегда казалась история с эпидемией холеры 1972 года очень благодатной для кино, потому что это действительно ситуация, когда люди оказываются в совершенно особом положении: не могут ни расстаться, ни разъехаться, ни въехать, не выехать. Кроме того, пусть эпидемия и была не такой уж страшной, это все равно болезнь, и люди умирали. По разным подсчетам, умерли то ли 12, то ли 16 человек, а слухи ходили куда более страшные. В этой ситуации люди, ощутив, что никто не знает, сколько им осталось, начали вдруг жить на полную катушку. Стали позволять себе высказываться, выяснять отношения, а главное, что‑то чувствовать — может быть, такое, чего они себе не разрешали. Фильм и об этом тоже.

Фото: © ООО «Мармот‑фильм»
ИМ → Ваш герой — корреспондент центральной газеты из Москвы. Вряд ли в вашей еврейской семье были выездные столичные журналисты?
ВТ ← Конечно, нет, но тут ни про кого нельзя сказать: «Вот это вся моя семья». Это какие‑то мотивы семьи, смешанные с фантазией, с историями знакомых и друзей, с мифами про людей того времени и про то, как они тогда жили и что чувствовали. В характерах старших Давыдовых есть что‑то от моих дяди и тети, но, конечно, зятя из Москвы, работавшего в «Известиях», у них не могло быть. Просто мне нужен был человек, жизнь которого была бы очень регламентирована и у которого было бы четкое понимание, что можно, чего нельзя. Тот, кто собирается ехать корреспондентом в Бонн, ходит, как по минному полю, знает, что шаг вправо, шаг влево — и все.
ИМ → Насколько тяжело вам далось решение не снимать в Одессе? (Съемки перенесли в другие города по причинам безопасности и из‑за того, что некоторым членам съемочной группы закрыт въезд на Украину. — Ред.)
ВТ ← Очень тяжело, потому что сам факт съемок фильма в Одессе был для меня в этом проекте во многом определяющим. Я люблю этот город, возможность просто прожить там два месяца, ходить по этим улицам, дышать этим воздухом и физически там находиться многие годы я воспринимал как огромный подарок, который я, возможно, когда‑нибудь смогу себе сделать. Просто так приехать в Одессу и походить по улицам я могу на два дня, а чтобы приехать надолго, прожить в Одессе еще одну жизнь — для этого нужно снять там фильм. И когда этот фильм стал реальностью, оказалось, что снимать там нельзя. Это был большой удар, я сопротивлялся до последнего и был близок к тому, чтобы вообще отказаться от фильма.
ИМ → Из‑за того, что в кадре была бы неправда?
ВТ ← Дело даже не в правде — дело в ощущении. Это уже превратилось бы тогда в какую‑то муку, выкручивание. А потом мой друг и продюсер фильма Леня Ярмольник — он же исполнитель главной роли — сказал: «Да ты что? Ну можно же придумать — это же кино». Он начал меня приучать к мысли, что фильм «Одесса» можно снять не в Одессе. И дальше начались поиски Одессы: мы ездили в разные города и смотрели, где это могло бы быть, пока пазл не сложился. Это было непросто, это было дорого. Когда ты снимаешь в четырех городах, таскать с собой из города в город людей и технику, строить декорации в разных городах и снимать обходится гораздо дороже, чем просто приехать в Одессу и снять.
ИМ → Вы сами признаете, что Одесса уже не та.
ВТ ← Но все равно Одесса. В общем, это было тяжелое решение, но я его принял и в итоге не пожалел. Мне кажется, если бы я его отложил, то, возможно, отложил бы уже навсегда.
ИМ → Сидни Поллак снимал «Гавану» в Санто‑Доминго, потому что в Гаване он в 1990 году снимать никак не мог. И Гавану там легко узнать.
ВТ ← Я видел «Гавану» много лет назад и помню, что очень хороший фильм. Вы мне подкинули хорошую параллель.
ИМ → Ваши герои говорят на идише. В вашем одесском детстве он был настолько употребим?
ВТ ← В моем детстве идиш был абсолютной нормой. Я родился в 1962 году, в 1972‑м мне было 10 лет. Во дворе, на улице, у подъезда сидели старушки и говорили на идише. Не хочу сказать, что идиш был основным языком, но он был достаточно распространен. Я сейчас вспоминаю, что многие неевреи, которые вырастали в этих дворах, понимали в общих чертах идиш на уровне «о чем говорят».
ИМ → Вы его понимали?
ВТ ← Никогда. У меня в семье никто не говорил.
ИМ → Герой Ярмольника, насколько я понимаю, списан с вашего дяди?
ВТ ← Это собирательный образ, и Леня Ярмольник говорит, что он похож на его отца. Но да, у меня был дядя Григорий Иосифович, который в свое время был директором маленького завода— прибороремонтного или какого‑то еще. Коммунист, такой еврейский партиец, воевал, имел ордена, уважаемый человек в городе. Как бы это он. А какие‑то черты я придумал.

ИМ → По сюжету он пытается запретить своей средней дочери уехать в Израиль — я помню таких родителей.
ВТ ← Еще как! Но мой дядя Григорий Иосифович таки сам уехал. Особая ирония в том, что вся их семья оказалась в итоге в Германии, где он умер, прожив довольно много лет на попечении агрессора.
ИМ → 1970 год — это самое начало еврейской эмиграции из СССР. А в совсем раннем вашем фильме «Любовь», снятом почти 30 лет назад, был зафиксирован почти ее конец. Почему вы стали делать «Любовь»?
ВТ ← Потому что я влюбился в девочку, ее звали Маша. Мне было 16 лет, был еще Советский Союз. Когда мы с ней встретились, она уже ждала разрешения на выезд. Заглядывала каждый день в почтовый ящик. Мы с ней общались несколько месяцев, и они уехали всей семьей. Я просто это запомнил. Для меня это было драмой, очень сильным потрясением — понять, что я больше никогда в жизни ее не увижу, человек как умер. Прошло какое‑то время, я окончил ВГИК и написал такой сценарий. И все как‑то совпало: появилось ощущение, что какой‑то определенный возраст уходит — возраст детства, бесшабашного существования, когда мы с друганом ходили по каким‑то девочкам, знакомились, приходили с бутылкой вина к кому‑то домой, там напивались, с утра не помнили, где мы были. Это восемнадцатилетнее разгильдяйство и лав стори очень органично для меня сошлись. Сценарий был написан гораздо раньше, чем я его снял, наверное, году в 1985‑м или 1984‑м, до перестройки.
ИМ → Когда слово «еврей» публично еще не звучало.
ВТ ← Да, еще нельзя было говорить. Я принес сценарий на «Мосфильм», дал почитать знакомым редакторам. Мне сказали: «Валера, спрячь это и больше никому не показывай». И я спрятал. А как только вдруг началась свобода, достал его, и выяснилось, что можно снимать. Но за этим не было ничего, кроме некоего случая, который произошел со мной и который я посчитал отличным для кино.
ИМ → В фильме главного героя играл Евгений Миронов, который, в отличие от вас, никаким боком не еврей и человек из другого мира. Я понимаю, что это усугубляло ситуацию.
ВТ ← Конечно, потому что мне нужен был нормальный обычный русский парень, и Женя полностью соответствовал этому. Если еще вспомнить, что он на тот момент был никому не известен — эта роль и принесла ему известность, то на экране было ощущение абсолютной достоверности: парень из толпы. Но я хочу, чтобы вы поняли: у меня нет понимания своего собственного еврейства. Мои родители не ощущали себя евреями. Мой папа и моя мама не соблюдали праздники, не понимали язык, не были религиозными людьми, не читали какие‑то особые книжки.
ИМ → Очень часто люди считают себя евреями только потому, что им об этом напоминают.
ВТ ← Родители знали себя как евреев, но еврейская культура, вообще понимание, что это значит, была для них абсолютно непонятной, чуждой. Если вернуться к фильму «Одесса» — вы понимаете, я снимал его про людей, которых я знал. Я знал, как они разговаривают, как они себя ведут, как они выясняют отношения, ругаются, орут друг на друга, потом мирятся, плачут. Я видел их способ жить, и мне комфортно рассказывать про них. Если бы я вырос в русской деревне в Вологодской области, я бы сделал фильм про людей, которые по‑другому живут.
ИМ → Но фильм об Одессе вообще без еврейской ноты был бы несколько противоестественным, разве нет?
ВТ ← Не уверен, Одесса очень пестрый город. Когда я учился в одесской школе, в классе было, допустим, 30 человек, и евреев из них было, я думаю, человек восемь, девять, даже десять. Но кроме Шапиро и Рабиновича там было еще десять человек с условной фамилией Нечипоренко, еще человек пять условных Иоаниди — греков, пять молдаван. И русские, само собой. Если бы я вырос в Одессе в греческой семье и у меня были бы дядя‑грек, тетя‑грек, двоюродный брат грек, это была бы история про греков, а еще во дворе жили бы евреи. Но они были бы где‑то сбоку. Интересно, что теперь из города уехали евреи, уехали греки. И город, конечно, опустел.

Странствующие души и стертое лицо

Зиновий Гердт. Объяснение в любви