Американо‑еврейско‑советский опыт и современное двоемыслие
Материал любезно предоставлен Tablet
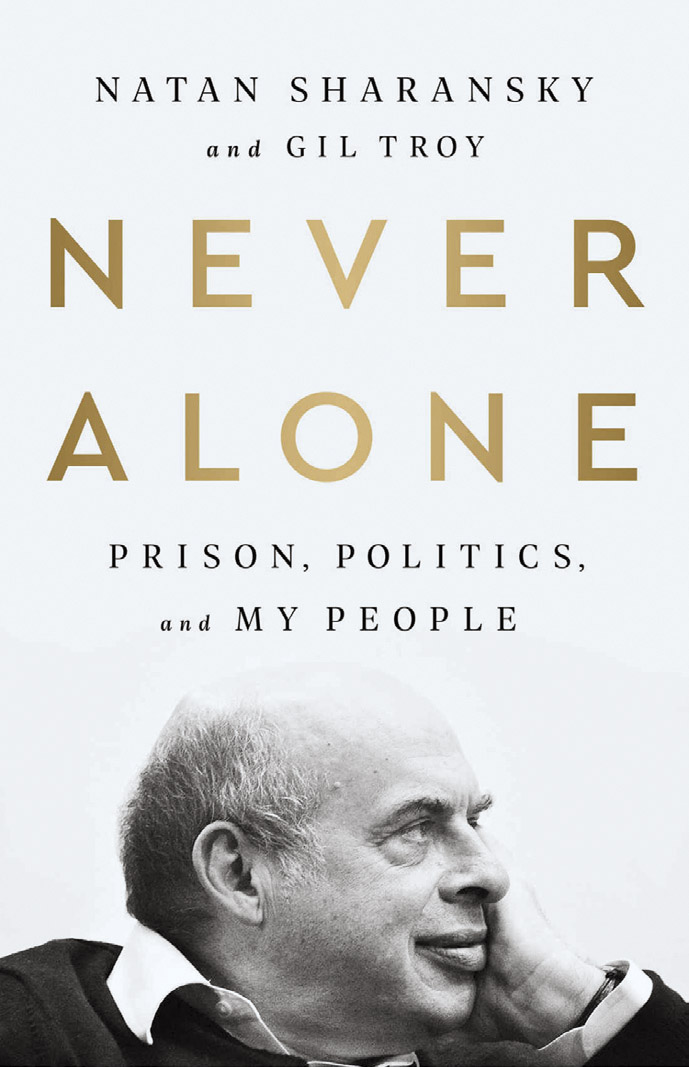
Nathan Sharansky, Gil Troy
Never Alone: Prison, Politics, and My People
Я никогда не был один: тюрьма, политика и мой народ
Blackstone Pub, 2020
Анатолий, ныне Натан, Щаранский родился в 1948 году на Советской Украине в городе Сталино (ныне Донецк) — в те времена и в тех местах, где еврейство было, говоря его словами, «неизлечимой болезнью, приговором, обрекающим на жизнь без надежд» и «приглашением к тому, чтобы на тебя смотрели с жалостью». Его родители — а они были свидетелями предвоенного террора, развязанного сталинским режимом, гитлеровского Холокоста и сталинских послевоенных кампаний против космополитов, — направляли сына на путь советской еврейской «борьбы за выживание»: этот термин ничего не говорит послевоенным американским евреям, но его без труда поняли бы их родители и, увы, возможно, поймут их внуки.
Советская еврейская борьба за выживание состояла в том, чтобы не высовываться и держать свои взгляды при себе, быть лучшим во всем и избирать техническое или научное поприще, где влияние идеологии было, пожалуй, менее пагубным, чем в истории, юриспруденции или журналистике. Если фортуна тебе благоволила, а ты не отклонялся от такой программы, тебе, возможно, удавалось преодолеть преграды на твоем пути — а именно еврейские имя и внешность, а также пункт «национальность» в документах. Вдобавок наука могла стать убежищем от иссушающей душу советской жизни с ее «двоемыслием» (необходимостью таить свои истинные мысли и чувства под маской верноподданного советского гражданина), а также создать у тебя иллюзию, что ты служишь высоким целям, а не режиму.
Какое‑то время Щаранский не отклонялся от программы, пояснил он мне, когда мы недавно встретились в Иерусалиме, чтобы поговорить о его новой книге «Я никогда не был один: тюрьма, политика и мой народ», написанной в соавторстве с Гилом Троем. Его приняли в самый престижный инженерно‑физический вуз страны, он переехал в Москву и готовился делать блестящую научную карьеру.
Однако очень скоро он осознал, что ни один советский человек не может оставаться внутри системы и при этом быть свободным от двоемыслия. От того, насколько он способен отчеканивать правильные лозунги и проходить проверки на идеологическую лояльность, его успех зависел никак не меньше, чем от его таланта ученого и трудолюбия. Он и его друзья‑евреи в глубине души ненавидели режим и «одновременно любили его публично». Он описывает мучительность этой внутренней раздвоенности: тревогу оттого, что, прежде чем заговорить, необходимо обдумывать каждое слово, страх сболтнуть что‑то не то кому‑то не тому, боязнь разоблачения. Но честолюбие и рано открывшиеся перспективы успеха в науке приковали его, словно кандалы, к пути, выбранному для него родителями.
Шестидневная война — вот что заронило в его душе первые семена сомнений. Нежданная победа Израиля над арабскими армиями, обученными и оснащенными Советским Союзом, была мигом могущества для всех евреев земного шара, но для советских евреев она имела особенное значение. Накануне войны советские газеты злорадно предрекали эпохальную победу «прогрессивных арабских стран» над «прихвостнями американского империализма» и «буржуазно‑националистическими сионистскими колонизаторами». Пропаганда окрылила местных евреененавистников — те без труда уловили в демонизации Израиля скрытое «ату» для антисемитов, и многие советские евреи испугались, что неминуемое уничтожение Израиля приведет к физическому насилию против них самих. Когда Израиль одержал победу, они праздновали не только чудесное спасение еврейского государства, но и свое счастливое избавление.
Но последствия победы Израиля имели для советских евреев еще более глубокое значение. Щаранский заметил, что «незнакомые люди, коллеги и друзья» вдруг стали смотреть на него иначе. Разговаривали с ним так, словно он лично нес ответственность за разгром арабских армий, руководимых советскими советниками. Вначале это ошеломляло: он же все‑таки верноподданный советский гражданин, такой же, как они. Но он не мог просто взять и прогнать это диковинное новое чувство. «Видя, что слово “Израиль” стало чем‑то, что могло бы возвеличить, а не только умалить нас, я преисполнился гордости и достоинства, никогда до сих пор мной не испытываемых», — пишет он. Он начал разыскивать информацию об Израиле и еврейской истории.
Таков был первый шаг к тому, чтобы Щаранский перестал жить жизнью «образцового советского двоемыслящего». Ему и бесчисленным другим советским евреям, чьим единственным подлинным еврейским опытом был опыт антисемитизма, это новое звено, лично связующее его с Израилем, открыло, как ничто другое, путь к еврейской идентичности. Мысль о том, что где‑то на нашей планете есть страна, которая любит их и хочет принять, — страна, которую они могли бы назвать «домом», — повелительно завладела их умами. Для советских евреев, по контрасту с их привилегированными американскими «двоюродными братьями», обещание Израиля стать убежищем для любого бедствующего еврея было вовсе не абстракцией. Когда Щаранский прочел о рейде израильских спецназовцев в Энтеббе в 1976 году с целью спасти израильтян‑заложников, он воспринял его как «гарантию личной безопасности» — обещание, что Израиль и ему придет на выручку, что его тоже спасут.

Щаранский ощущает прочную и естественную связь между тем, когда он открыл в себе еврея, и тем, когда в нем пробудилась жажда свободы. Он пишет, что идентичность и свобода тесно взаимосвязаны. «Только когда я открыл свою идентичность, я нашел в себе силы бороться за свою свободу и свободу других», — сказал он мне. Быть рабом своего профессионального честолюбия означало, что он вечно обречен раздваиваться — в душе одно, а на лице — маска. Даже наука не могла спасти его из «портативной, перманентной камеры страха». Чем отчетливее он ощущал свою принадлежность к еврейскому народу, тем меньше был готов оставлять свое подлинное «я», так сказать, «перед проходной» престижного научного института. Он хотел свободы быть собой в полной мере в любое время.
Щаранский весьма подробно останавливается на своих отчаянных попытках жить по правде. И на это у него есть причина. Он глубоко обеспокоен тем, что, как он полагает, в Америке уже видны проблески эры двоемыслия, — недавний вывод (и он наиболее точен) Института Катона показывает, что у 62% американцев такие политические взгляды, которыми они опасаются делиться с окружающими. Двоемыслие опасно для демократии, предостерегает Щаранский. Его слабо утешает то, что новая разновидность культурного тоталитаризма, принуждающая людей к самоцензуре, идет не от правительства и не навязывается ведомством наподобие КГБ: ведь сфабрикованное общественное мнение того рода, которое производят сегодняшние социальные сети и традиционные СМИ, способно затыкать людям рот и толкать их к раздвоенной жизни ничуть не меньше, чем государственная пропаганда и грубая сила. Против этого есть только одно средство, сказал он мне: «Во‑первых и прежде всего каждый должен решить для себя, что не приемлет двоемыслия и будет говорить то, что думает на самом деле».
Если кто и вправе обратиться с таким призывом, то это, разумеется, Щаранский. Пытаясь примирить с совестью все стороны своей жизни, он пожертвовал не только престижной карьерой, но и свободой. Как ни поразительно, он уверяет, что в тюрьме был более свободен, чем на воле: в тюрьме не требовалось напяливать маску. На допросах он дразнил следователей, рассказывая им анекдоты про Брежнева — подрывные шутки: в них генсек изображался нелепым, выжившим из ума болваном, каким он и был, — и с удовлетворением наблюдал, как они с трудом сдерживают смех. «Вы даже смеяться, когда хочется, не можете», — корил он их: так кто же из нас по‑настоящему свободен? В карцере в Мордовии, где его держали в условиях сенсорной депривации, он рисовал в воображении, как за него борются друзья в Америке, Израиле и остальном мире. И, представляя их, ограждал себя, как щитом, от мучителей, уверявших, что мир бросил его на произвол судьбы.
Советская пропаганда пыталась подорвать идею еврейского национального самосознания называя его фикцией и утверждая, что советские евреи не имеют ничего общего с евреями в Израиле и Америке. Также советские спецслужбы применяли «активные меры» — инструменты дезинформации и манипуляции , — чтобы сеять раздор между американскими еврейскими группами. Эти усилия делают особо существенной одну из главных мыслей в книге Щаранского и Троя: мы должны стремиться презреть то, что нас разъединяет, и крепить те узы, что нас объединяют.
Сегодня Щаранский видит, что некоторые из тех самых сил, давивших на него в Советском Союзе — антисемитский антисионизм, демонизировавший еврейское государство, и желание, чтобы Щаранский отказался от еврейской идентичности и вписался в господствующую идеологию, — давят на американских евреев. Что и говорить, США — не СССР, но от этого подобные силы не становятся менее пугающими. Я спросила Щаранского: возможно, американским евреям — они ведь впервые в жизни сталкиваются с таким нажимом — будет полезно изучить поглубже опыт советских евреев?
Щаранский согласился со мной. Да, им есть чему поучиться у советских евреев: во‑первых, «еврейской гордости» — своего рода ответу на антисемитизм. И, во‑вторых, их целостному пониманию антисемитизма.
«В России не было разницы между антисемитизмом и антисионизмом, — сказал Щаранский. — Советские евреи знали, что и кампания против космополитов, и антисионистские кампании были кампаниями против евреев».
Проверки на идеологическую лояльность стремительно становятся нормальной частью американской институциональной и общественной жизни. Если судить по новейшей тенденции «отменять» тех, кто отказывается подчиняться этой норме, то, возможно, скоро перед многими встанет тот же выбор, что и перед Щаранским: жить по по правде или уйти в раздвоенную жизнь в состоянии двоемыслия. Евреям следует учесть еще и кое‑какие дополнительные факторы. Например, способность в полной мере жить в соответствии со своей еврейской идентичностью либо необходимость отсечь ее «нежелательные» части, такие как связь с Израилем. Щаранский показывает, что путь наименьшего сопротивления — самоцензура и двоемыслие — обойдется далеко не так дешево, как вы могли бы подумать.
Уходя с поста главы Еврейского агентства, Щаранский дал своему преемнику совет: «Чтобы получать удовольствие от своей работы — пусть даже не девять лет, а хотя бы одну минуту, — ты должен ответить на один вопрос: любишь ли ты еврейский народ?» Ответ Щаранского: однозначно «да». Этот вопрос и этот вызов он адресует всем нам. В плюрализме и разнообразии мнений — одна из самых сильных сторон еврейского народа, пишут Щаранский и Трой. Но мы также должны помнить, что, даже когда мы горячо спорим, наша цель — не победить. А «продолжать наше путешествие вместе», как единый народ.
Оригинальная публикация: The American Jewish Soviet Experience

«Это наше великое празднование освобождения»

Русская волна в Израиле тридцать лет спустя


