The New Yorker: Аарон Аппельфельд и его легенды о доме
В 2018 году Израиль потерял двух величайших прозаиков — Амоса Оза и Аарона Аппельфельда. Оба родились раньше, чем страна, и были очевидцами всей ее драматичной истории с самого ее начала, но трактовали эту историю совершенно по‑разному. Оз — он родился в 1939 году в Иерусалиме — бросился развивать молодое еврейское государство: писал о кибуце, в котором жил, о психологии первого поколения израильтян‑сабров, а также играл активную роль в политике как один из основателей движения «Мир сейчас». Если хочешь понять израильское общество в первые полвека его существования, самое верное — начать с романов Оза.
Читая Аппельфельда, напротив, практически ничего не узнаешь о стране, где он жил, — по крайней мере, впрямую. Хотя он писал на иврите, преподавал в израильском университете и удостоился самых почетных израильских литературных премий, в воображении своем он сосредоточился на краях своего раннего детства — Восточной Европе. Аппельфельд написал больше 40 книг, и почти во всех действие происходит в бывшей Австро‑Венгерской империи. По большей части это книги о людях, похожих на его родителей: ассимилированных, говорящих по‑немецки евреях среднего класса, которые живут в провинциальных городах, отдыхают в загородных пансионатах или курортных городках и поклоняются литературе и музыке вместо того, чтобы поклоняться Б‑гу своих предков.

И потому‑то, неизбежно, все эти книги — о Холокосте, уничтожившем этих евреев и их цивилизацию в ту пору, когда Аппельфельд был еще ребенком. Он родился в 1932 году в деревне близ города Черновцы, который тогда был румынским, а теперь отошел Украине, — и его детство трагически оборвалось в 1941‑м, когда фашистское правительство Румынии отправило евреев этой области в трудовые лагеря. Солдаты, пришедшие в дом Аппельфельда, расстреляли во дворе его мать — и он все слышал, а его вместе с отцом отправили в лагерь, где их разлучили. Аппельфельд сбежал, спрятался в лесу и провел следующие несколько лет, скитаясь по сельской местности, ночуя то под открытым небом, то в домах украинцев, пока не прибился к подошедшей Красной армии.
К тому времени, когда он в 1946‑м, за два года до основания Израиля, приехал в Палестину, жизнь помотала его так, что даже ошметков идентичности не осталось. Потеряны были семья, дом и страна, а также упущены несколько лет воспитания и жизненного опыта. «Вторая мировая война тянулась шесть лет без передышки, но мне порой кажется, что она продолжалась лишь одну долгую ночь, и после нее я пробудился совсем другим человеком», — написал он в своих мемуарах 1999 года «История одной жизни».
Уникально странная атмосфера прозы Аппельфельда обусловлена тем фактом, что он не мог вспомнить собственное прошлое, и ему пришлось призвать на помощь воображение. «История одной жизни», где Аппельфельд пытается писать о пережитом в документальном ключе, — ценная, но не слишком содержательная и обрывочная книга. В романах Аппельфельд, наоборот, вдохновенно и уверенно пишет об опыте, который никоим образом не мог получить сам, и о мирах, не вполне похожих на реальный.
В этом отношении Аппельфельд подобен Кафке, о чьем влиянии он упомянул в интервью 1988 года Филипу Роту: «Он говорил со мной не только на моем родном языке, но и на другом языке, который я глубоко изучил, на языке абсурда». Слово «абсурд» в его философском значении — что‑то неотвратимое, но бессмысленное — исчерпывающе характеризует путешествие рассказчика в книге Аппельфельда «Железные пути» (1991). Действие происходит после Второй мировой войны: выживший в Холокост Эрвин Зигельбаум всю жизнь проводит в поездах — год за годом, по неизменному кружному маршруту, объезжает Австрию от одной станции до другой.
«Благодаря поездам я свободен. Если бы не поезда, кем бы я был в этом мире? Насекомым, безмозглым клерком», — размышляет Зигельбаум, что заставляет вспомнить Грегора Замзу, который в «Превращении» Кафки обернулся насекомым. Вечные скитания позволяют Эрвину (это же имя носил Аппельфельд, пока не сменил его на ивритское Аарон) остаться бездомным в стране, которая и есть его единственный дом. Это притча об отношениях евреев с Европой после Холокоста: они не могут ни жить на земле, где обитали их предки, ни оставить ее позади. «Здесь мне ничего не светит, — говорит другой еврей‑скиталец, которого Эрвин повстречал в поезде. — У меня ничего нет. И все равно мне трудно покинуть это “ничего”».
Для такого израильского прозаика, как Аппельфельд, одержимость Европой и прошлым была чем‑то вроде открытого непокорства. Одним из ключевых принципов сионизма с самого начала было «отрицание диаспоры»: на родной земле евреям полагалось повернуться спиной к векам притеснений. Еще насущнее это было для беженцев, которые приехали в Израиль после Холокоста, где их воспринимали как страшное напоминание о цене, заплаченной евреями за бессилие. В «Истории одной жизни» Аппельфельд вспоминает: ему, когда он только прибыл в Палестину, вбивали в голову, что нужно всецело родиться заново: его будущее требовало, чтобы он «отказался от памяти, полностью переродился и без остатка отождествил себя с этой узкой полоской земли».
В романе «Баденхайм 1939», вышедшем в 1975‑м (возможно, это самая известная его книга), Аппельфельд заклеймил самообман довоенного европейского еврейства так беспощадно, что ни один сионист не мог бы осудить его куда строже.
Это чудовищная идиллия, место действия — австрийский курортный городок, где евреи, его жители, проводят последнее предвоенное лето, слушая камерную музыку, лакомясь пирожными и затевая интрижки, покуда правительственное министерство санитарии издает все более зловещие постановления о предстоящей им высылке «в Польшу». На последней странице книги горожане собираются на вокзале, и один из них замечает: «Раз вагоны такие грязные, то уж, верно, ехать нам недалеко». Как же велика пропасть между тем, что знали евреи в 1939‑м, и тем, что знает читатель после 1945 года, пропасть, которую, сколько бы раз ни писал о ней Аппельфельд, не перейти, — и при мысли о ней леденеет кровь.
На иврите переезд в Израиль называют «алия», буквально — «подъем», а переезд из Израиля за границу — «йерида», «спуск»; в этих понятиях содержится явная моральная оценка. (В первом романе Амоса Оза «Может быть, в другом месте», написанном в 1966 году, злодей типа персонажей Достоевского пытается соблазнить девушку из кибуца покинуть Израиль и вернуться в Европу — ну а страшнее предательства и быть не может.) Эти слова — они обозначают, куда направлено движение, — играют стержневую роль в притче, выстроенной Аппельфельдом в романе «К пределу скорби», — истории о группе евреев, которые взбираются на гору, чтобы основать общество нового типа, но в финале поневоле спускаются вниз, в чем‑то одержав победу и в чем‑то потерпев поражение.
Такие мини‑общества можно найти в центре многих романов Аппельфельда. В «Баденхайм 1939» это курортный городок, в «Железных путях» — сонм персонажей‑странников, «Лечебница» (1982) — история своеобразного дома престарелых в Австрии в ХХ веке, куда отправляется группа евреев, чтобы отучиться от дурных (то есть узнаваемо еврейских) привычек. Подобный антураж служит Аппельфельду этаким литературным аналогом чашки Петри, где определенные задатки человека могут развиться до крайних проявлений, а прозаик освобождается от тех зачастую томительно‑скучных обязательств, которые налагает социальный реализм.
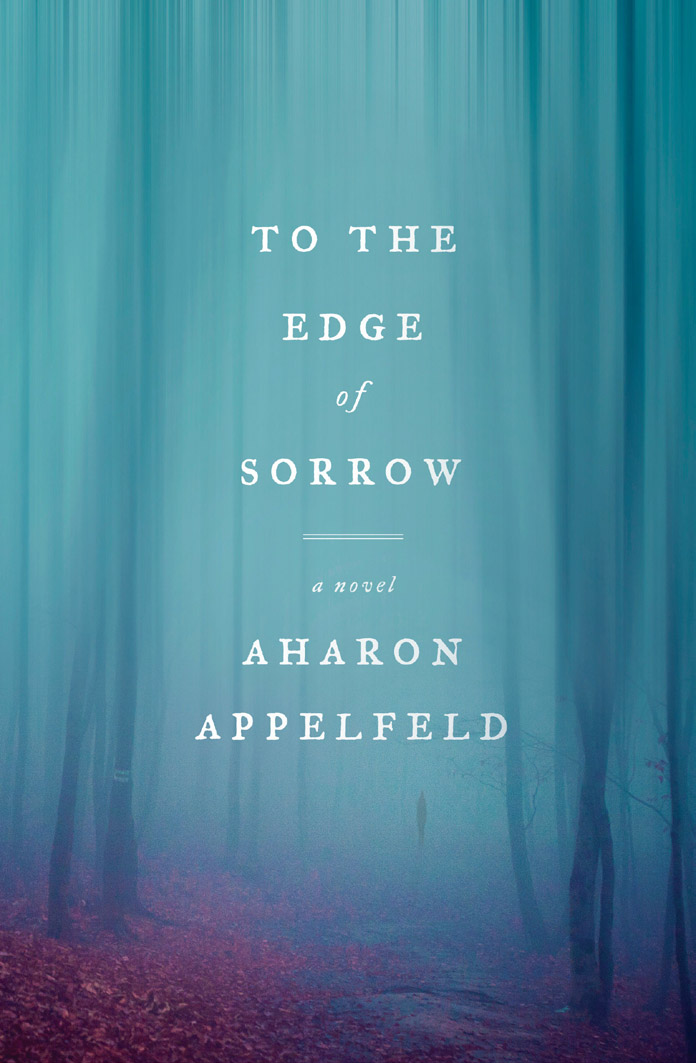
В романе «К пределу скорби» такое общество — отряд еврейских партизан во время Второй мировой войны. Их меньше полусотни, они прячутся в сельской местности на Украине, добывают провизию, совершая набеги на хутора, надеются продержаться до наступления Красной армии. Вот, казалось бы, завязка приключенческого романа про войну, но, хотя нам сообщают о перестрелках и диверсиях, Аппельфельду чужда остросюжетность. Его романы не заставляют читателя напряженно ждать, что случится дальше, а погружают в некое настоящее вне времени, в химерический замкнутый мирок, околдовывающий еще сильнее оттого, что знаешь: в него вот‑вот вторгнется внешний мир. Очевидно, эта концепция времени отражает личный опыт Аппельфельда — внезапный конец его детства, а возможно, и период скитания в лесах, настолько отличающийся от знакомой ему жизни, что не верилось, будто все это происходит на самом деле.
То же можно сказать и о коллективной жизни партизанского отряда, о которой рассказывает один из партизан, 17‑летний Эдмунд. Командир Камил, боец жесткого нрава, обучает новобранцев и водит их на задания — подрывать немецкие железнодорожные пути. Но вскоре мы узнаем, что Камилу не чужды духовные поиски, и его цель — не только спасать жизни евреев, но и возродить еврейскую жизнь: «Мы ведем войну не просто ради того, чтобы уцелеть. Если мы не выйдем из этих лесов евреями в полном смысле слова, то, значит, мы ровно ничему не научились».
Камил ведет партизан на горную вершину не просто для того, чтобы найти им надежное убежище накануне зимы. Он также — Моисей на горе Синай, надеющийся получить новый Закон, который исцелит сломленный народ. Он требует выделять время на изучение религиозных книг, спасенных партизанами из покинутых евреями домов, хотя ему самому из всей еврейской литературы известны лишь — пронзительный нюанс — труды современного популяризатора Мартина Бубера.
Однако в прозе Аппельфельда партизаны, как и евреи, по преимуществу люди секулярные, с иудаизмом их ничего по‑настоящему не связывает, и для них проповеди Камила — некое несуразное ретроградство. Карл — он коммунист, и его имя весьма символично — даже рассказывает, что когда‑то терроризировал раввинов и брал с них обещание больше не учить иудаизму. Только престарелая бабушка Цирл все еще сохранила что‑то от незамысловатой веры их предков. «Иногда бабушка Цирл кажется кем‑то вроде жрицы: ее племя заблудилось, а она пытается передать горстке уцелевших — последним головешкам, выхваченным из костра, — веру, которая выше их разумения», — пишет Аппельфельд.
Таким образом горная вершина партизан, которая уже была своего рода Синаем, становится еще и вариацией на тему альпийского санатория, где в «Волшебной горе» Томаса Манна происходит воспитание души Ганса Касторпа. Подобно Манну, Аппельфельд исследует все главные неразрешимые вопросы ХХ века, только в их еврейских версиях. Могут ли люди Нового времени воистину вернуться к образу веры предыдущей эпохи? («Как человеку молиться, не веруя в слова молитвы?» — пишет Аппельфельд). Коммунизм — наследник веры иудаизма в мессианское будущее или извращение этой веры? Почему даже когда Германия была на пороге поражения, нацисты продолжали считать своим первоочередным делом убийство евреев, а не срочное достижение военных задач? И как могут евреи по‑прежнему растить детей в мире, где возможна такая ненависть?
До самого конца романа ни на один из этих вопросов ответа нет, потому что ответить на них невозможно. После новых испытаний уцелевшие партизаны спускаются с горы, возвращаясь в реальную жизнь, где им придется иметь дело с неуемной неприязнью соседей и изобилующей трудностями необходимостью начать жизнь заново. Для Аппельфельда и многих других выживших после 1945 года единственным возможным шагом был отъезд в Израиль, где их призовут забыть прошлое во имя строительства будущего.
Роман «К пределу скорби» завершается на не столь однозначной ноте. На последней странице романа человек, выживший в концлагере, спрашивает одного из партизан, куда им всем теперь идти.
«Домой», — вмиг отвечает тот.
«В какой такой дом?» — спрашивает выживший.
«Дом только один — мы в нем выросли, любили его, вот в этот дом мы и возвращаемся».
Но что это за дом, который Аппельфельд намеренно отказывается называть по имени? Восточная Европа, где почти всех евреев перебили? Израиль, куда сионизм призывает евреев вернуться, считая его их историческим домом? Или же, пожалуй, для Аппельфельда единственный возможный дом — что‑то вроде этой горной вершины, полузабытое, полупридуманное место, которое может существовать только на книжных страницах.
Оригинальная публикация: Aharon Appelfeld’s Legends of Home
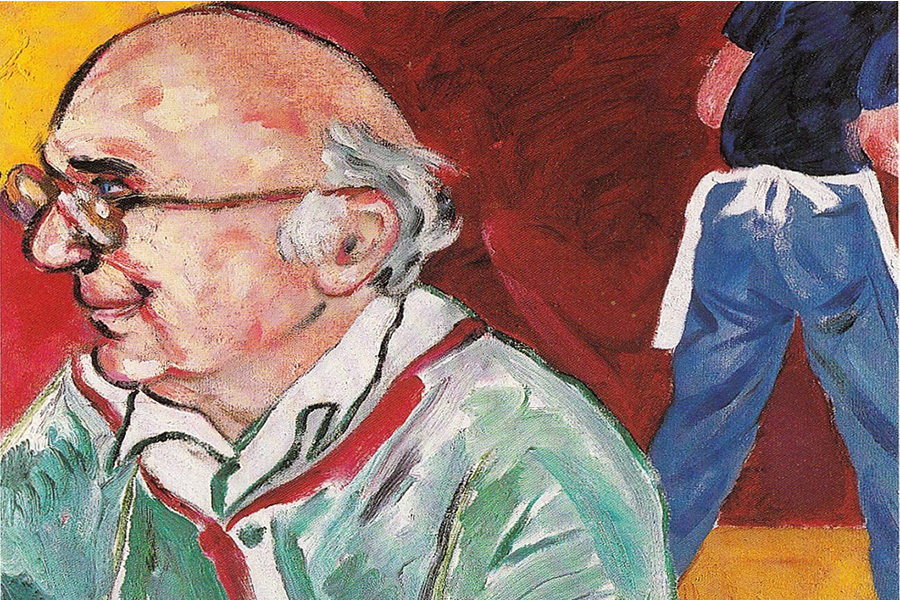
Последнее интервью Аарона Аппельфельда

The New Yorker: Аарон Аппельфельд и литературная истина в памяти о Холокосте

