В густом тумане Бродский идет по набережной Венеции. На нем — черная саржевая куртка, белая рубашка с отложным воротником, на голове — матерчатая кепка. Ему предстоит встретить женщину, стиравшую и гладившую его рубашку шесть лет тому назад. Это всего лишь фантазия, сон на тему итальянского неореализма. Но фантазия ведет Иосифа дальше — к старому фото, сделанному в Литве. Худые мужчины среднего роста стоят на краю свежевырытой ямы. У них внешность «северян», они — не литовцы, а литовские евреи — ведь и самого себя поэт трижды называет «северянином». «Северяне» одеты в тяжелые черные куртки поверх исподних рубашек без воротничков, а на головах у них — матерчатые кепки. Через мгновение они умрут.
Бродский — сын фотографа и сам фотограф. Его американская подруга Сьюзен Зонтаг, автор знаменитого эссе «О фотографии», приводит Иосифа в дом Ольги Радж, любовницы Эзры Паунда. Рядом с Паундом Иосифу еще предстоит лежать на кладбище Сан‑Микеле, их встреча состоится после смерти. Паунд — не только великий поэт, но и пламенный фашист, и антисемит. В годы войны он служил на итальянском радио, изливая на американских солдат фашистскую пропаганду. Но, с точки зрения Ольги, Эзра не знал о том, что происходило, он жил в Рапалло, где не было немцев. Бродский не возражает, только замечает про себя, что «поэт, больше, чем кто‑либо другой, должен был бы знать, что время не знает расстояния между Рапалло и Литвой». Выйдя из дома Радж, Иосиф и Сьюзен сворачивают налево и попадают на Набережную неисцелимых.

Очевидно, перед нами метафора, давшая название итальянскому и русскому переводам эссе — «Набережная неисцелимых» (Fondamenta degli Incurabili). На эту набережную выносили безнадежно больных, когда в Венеции воцарялась чума. Казалось бы, суть метафоры — неисцелимость Радж и всех тех, кто упорствует в фашизме или коммунизме. Но смысл лежит глубже. «Неисцелимость» — это «легендарная способность языка подразумевать больше, чем может обеспечить реальность». Язык потому и жив, что неисцелим, что порождает метафоры и ассоциации на каждом шагу. И далее мы читаем: «Конец болезни есть конец метафоры. Метафора, или, говоря шире, язык — вещь с открытым концом. Он жаждет продолжения, посмертного существования, если угодно. Другими словами, метафора неисцелима (и это вовсе не каламбур). Добавь к этому себя самого, носителя данного ремесла или вируса (на самом деле — двух, точащих твои зубы для третьего), себя, шаркающего ночью в сильный ветер вдоль Fondamenta, название которой выдает твой диагноз, независимо от того, чем ты болен». Два вируса Бродского — это два его языка, английский и русский. На русском он писал стихи, на английском прозу. А третий язык — итальянский, на котором он так и не заговорил.
Мы догадываемся, откуда взялся вирус. Некогда на всей земле был один язык. Двинувшись с Востока, люди нашли равнину в земле Шинар, поселились там и начали строить город и башню высотой до неба, чтобы создать себе имя. Но Б‑г смешал языки, так что одни перестали понимать речи других. «Посему дано имя городу: Вавилон (Бавел), ибо там смешал (бавал) Г‑сподь язык всей земли» (Быт., 11:9). С точки зрения французского философа Жака Деррида, это «миф об истоке мифа, метафора метафоры, рассказ рассказа, перевод перевода». Метафора есть перенос смысла. Она необходима, чтобы продлить жизнь языка в вечности, не сводя все вновь к единому наречию, к единому тоталитарному смыслу. Б‑г, смешав языки, воспретил нам «колониальное насилие и лингвистический империализм». О, этот комплекс кающегося дворянина в западном интеллигентском сознании! Они раскаиваются в завоевании Востока и в особенности Ирака (земли Шинар), в порабощении Алжира, в угнетении Африки! В России этот комплекс давно изжит, у нее — свой опыт тоталитаризма, опыт зла.
В очерке «Путешествие в Стамбул» Бродский пишет: «Я прибыл в этот город и покинул его по воздуху, изолировав его, таким образом, в своем сознании, как некий вирус под микроскопом. Учитывая эпидемический характер, присущий всякой культуре, сравнение это не кажется мне безответственным». Какая же зараза свойственна Стамбулу, Константинополю? Пренебрежение к личности, фатализм, смирение. «Выгоды этого состояния очевидны, ибо они эгоистичны… Смирение достигается всегда за счет немого бессилия жертв истории — прошлых, настоящих, будущих; ибо оно является эхом бессилия миллионов». Поскольку цивилизации распространяются как растительность, то Руси с ее географическим положением некуда было деваться от Византии, полагает Бродский.
В другом очерке он пишет: «…русская поэтическая традиция всегда чурается безутешности — и не столько из‑за возможности истерики, в безутешности заложенной, сколько вследствие православной инерции оправдания миропорядка (любыми, предпочтительно метафизическими, средствами)». Исключение составляет Цветаева, «поэт бескомпромиссный и в высшей степени некомфортабельный». И тут же Бродский раскаивается — в своем презрении к Востоку, в том, что сбрасывает со счета чужую толпу, что отметает людей, как лезущую в глаза пыль. «Что ж, вполне возможно, что мое отношение к людям в свою очередь тоже попахивает Востоком. В конце концов, откуда я сам?»
Иногда он называл себя кальвинистом, но чаще — евреем. Абсолютизм — еврейская черта. «Мне жаль тебя, но я — еврей, — говорил он Адаму Михнику, — стопроцентный. Нельзя быть евреем большим, чем я. Отец и мать — никаких сомнений, без капли примеси. Но я думаю, что я еврей не только поэтому. Я сознаю, что в моих взглядах присутствует некий абсолютизм. Если же взять религиозный аспект, если бы я сам себе формулировал понятие Высшего Существа, то сказал бы, что Б‑г — это насилие. Ведь именно таков Б‑г по Старому Завету. Я это ощущаю сильно. Именно ощущаю, без каких‑либо доказательств».
Спор Бродского с Солженицыным — следствие такого подхода. В эссе «Катастрофы в воздухе» Бродский поставил Солженицына как писателя на второе место после Надежды Мандельштам. «Александра Солженицына, этого великого человека, с его романами и документальной прозой, я позволяю себе назвать вторым главным образом из‑за его очевидной неспособности разглядеть за самой жестокой политической системой в истории христианства падение человека, если не падение религии… Учитывая масштабы исторического кошмара, который он описывает, эта неспособность достаточно показательна, чтобы заподозрить зависимость между его эстетическим консерватизмом и его отказом признать, что зло присуще человеческой природе… Отказ этот чреват возрождением кошмара при полном дневном свете — в любой момент».
Неудивительно, что Солженицын (ценивший талант Бродского) ответил ему обвинениями в «неистребимой сторонности, холодности, сухой констатации, жестком анализе». Бродский — посторонний и русским, и евреям. «Его выступления могла бы призывно потребовать еврейская тема, столь напряженная в те годы в СССР? Но и этого не произошло». Что же до отношения к русским, то Солженицын ставит Бродскому в вину маленькую поэму «Представление»: «Непригляднейшее “Представление” — срыв в дешевый раешник, с советским жаргоном и матом, — и карикатура‑то не столько на советскость, сколько на Россию, на это отвратительное скотское русское простонародье, да и на православие заодно: “Дайте мне перекреститься, а не то — в лицо ударю”». Так писал Солженицын в рецензии на сборник Бродского «Часть речи. Избранные стихи 1962–1989».
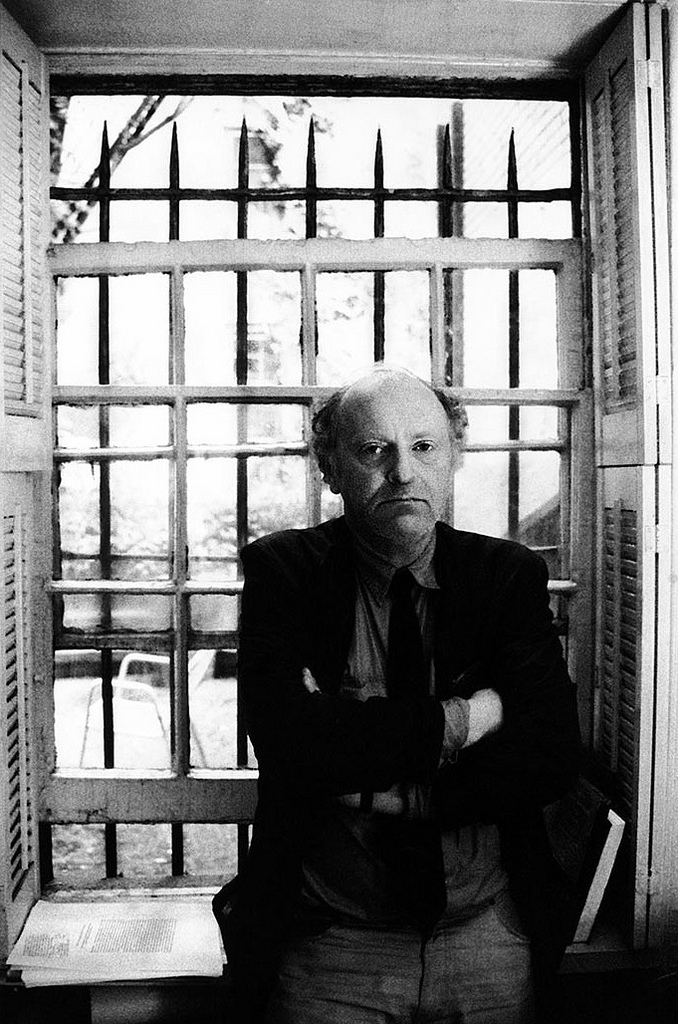
Бродский презирал согласие с действительностью, которая якобы всегда разумна. Презрение переходило у него на личности — например, на личности Вознесенского и Евтушенко. Или Гегеля. Он писал в своем очерке «Путешествие в Стамбул»: «И если вы уже не в том возрасте, когда можно вытащить из ножен меч или вскарабкаться на трибуну, чтобы проорать морю голов о своем отвращении к прошедшему, происходящему и имеющему произойти, если таковая трибуна отсутствует или если таковое море пересохло, — все‑таки остается еще лицо и губы, по которым может еще скользнуть вызванная открывающейся как мысленному, так и ничем не вооруженному взору картиной, улыбка презрения».
Но у губ есть и иное предназначение. О нем напоминает Деррида в книге «О почтовой открытке от Сократа до Фрейда». Язык на иврите — «губа» (сафа). Чтобы остановить строительство Вавилонской башни, Г‑сподь смешал не языки, но «губу всей земли». «Губу» — в единственном числе! И поэтому, обращается Деррида к своей возлюбленной, «я люблю все те ласковые слова, которыми называю тебя, и все‑таки у нас есть как бы только одна губа, чтобы все высказать… Мы разделены, и в это мгновение я умираю от желания поцеловать тебя нашей губой, единственной, которую я не устану слушать». И Бродский «ниоткуда с любовью» приветствует ту, черт лица которой он уже не может вспомнить: «Я взбиваю подушку мычащим “ты”, / За морями, которым конца и края, / в темноте всем телом твои черты, / как безумное зеркало повторяя». Что нам выбрать, поцелуй или улыбку презрения, мягкость Гилеля или твердость Шамая, ненависть или любовь? Как труден этот выбор!
В мае поэту исполнилось бы 80 лет. К своему сорокалетию он написал знаменитые стихи: «Я входил вместо дикого зверя в клетку». Они заканчивались словами: «Но пока мне рот не забили глиной, / из него раздаваться будет лишь благодарность». Через сорок лет мир поразила чума.

Лев Лосев. Собеседник раненого мира

Бродский: протестант или «жид»?

