The New Yorker: Злокачественная расовая теория Менгеле — свежим взглядом
Неужели мы дожили до времен, когда нацисты перестают быть поучительным примером аморальности? Похоже, по прошествии восьми десятков лет нацисты перешли в категорию, к которой относят орков и киношных акул, — в категорию фантастических существ, воплощающих зло, а не исторических фигур, которые были злом в реальности. Вы можете возразить, что нам следует узнавать о нацистах не из передач «Хистори чэннел» (вроде «Гитлер и оккультизм»), а из достоверных источников, и все же приходит время, когда стереотипы массовой культуры и впрямь берут верх над историческим мышлением. Никто уже не протестует против шуток об испанской инквизиции: между тем она сжигала заживо скептиков и евреев, но сегодня напоминает о себе преимущественно в скетче «Монти Пайтон» («Испанскую инквизицию никто не ждет!» ); а Генрих VIII и Тюдоры, хотя они тоже кое‑кого сожгли, а тысячам отравили жизнь — в первую очередь тема мыльной оперы и только потом проповеди.
Две новые книги свидетельствуют, что в случае с нацистами тема себя не исчерпала, и, наоборот, когда мы пытаемся понять, как совершается зло, лучше всего это помогает понять, как зло совершалось в прошлом. Герой книги Дэвида Г. Маруэлла «Менгеле» (издательство «У. У. Нортон») — один из «верховных орков» Йозеф Менгеле, «ангел смерти» Аушвица, прямо на перроне сортировал узников — кого‑то из семьи отправлял в газовые камеры или на смертельно‑изнурительные работы, а на ком‑то проводил странные медицинские эксперименты; впоследствии он — целый и невредимый — сбежал в Южную Америку и там скрывался. Его имя стало синонимом чистого зла — зла ужасающего, просвещенного: именно фигура Менгеле вдохновила фильм «Марафонец», где дантист (его играет Лоуренс Оливье) пытает персонажа Дастина Хоффмана, — фильм, из‑за которого целое поколение опасалось ходить к стоматологу.
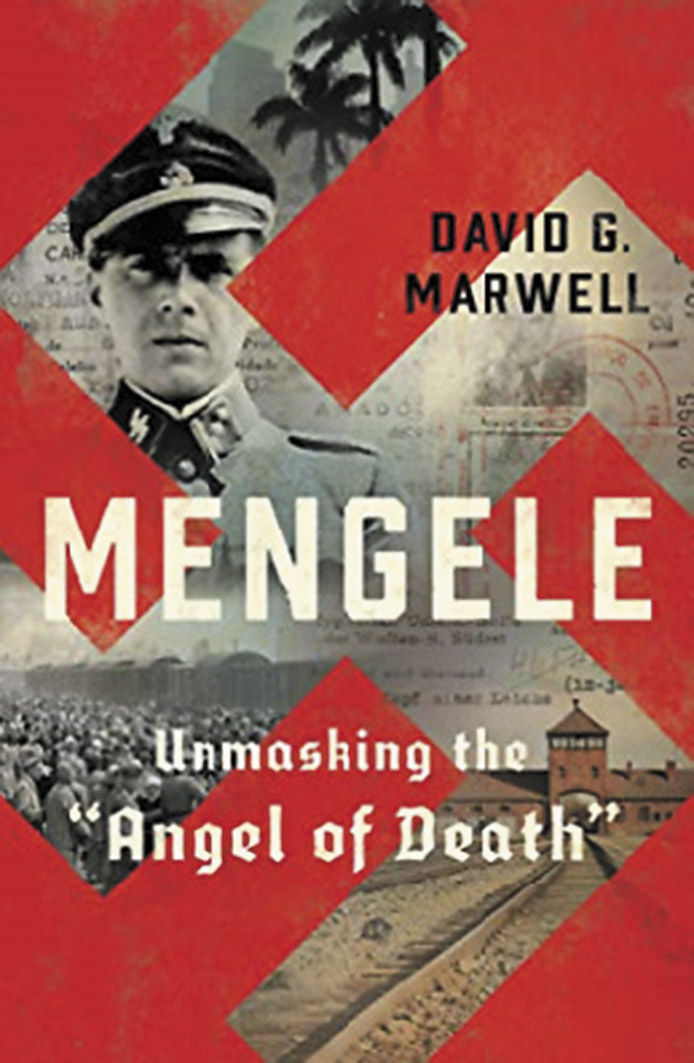
David G. Marwell
Mengele. Unmasking the «Angel of death»
Менгеле. Разоблачение «ангела смерти»
W. W. Norton & Company. 2020. 448 c.
Маруэлл в своем жизнеописании Менгеле сообщает нам много нового — как о самом Менгеле, так и — что еще важнее — об общественной и научной среде, допустившей, чтобы он преуспел. Нет ничего удивительного в том, что образованные люди творят зло, и все равно нельзя не поразиться, видя, какое обоснование они подводят под свои поступки, нагромождая правдоподобные резоны на самооправдания, чтобы в итоге, подобно Менгеле, по утрам смотреться в зеркало с удовольствием — в восторге от себя. Менгеле, хотя по образованию был медиком, считал себя ученым. Физическую антропологию он изучал в «высших эшелонах» образовательной системы Германии. Отпрыск добропорядочного баварского католического семейства — на склоне лет в изгнании он написал слезливые мемуары о своей благочестивой матери‑католичке, — он учился в Бонне и Вене, а в 1933 году работал в Мюнхене под началом Теодора Моллисона, немецкого антрополога шотландского происхождения. Именно Моллисон, пишет Маруэлл, «довел до совершенства ряд измерительных и записывающих приборов, которые помогли стандартизировать ключевые замеры, служившие основой физической антропологии, и повысить их точность». Моллисон уже в начале 1930‑х был ярым нацистом, и тот род антропологии, который он преподавал, очень легко трансформировался в völkisch идеологию; это была чисто описательная наука, и она легко переплавлялась в псевдонауку — в то, что Стивен Джей Гулд метко нарек «ложноизмерением человека» . Моллисон прославился своими «кривыми отклонений» — графиками, которые якобы демонстрировали различия между расовыми типами.
Любую идею и идеал можно извратить так, что она превратится в собственную противоположность. Религиозные доктрины, наставляющие отринуть насилие и возлюбить врагов своих, мигом оборачиваются поиском того врага, которого любить не положено. И намерение, и извращение намерения обычно кристально‑прозрачны. У нас даже есть слово, отлично обозначающее такое отнюдь не отличное поведение, — «лицемерие». Но научные теории, достоверность которых зиждится на их способности объяснить действия узкой группы объектов, могут обращаться в ложные модели в областях знания, никак не связанных с первоначальной, притом не лицемеря — во всяком случае, не лицемеря сознательно. Дарвиновская идея борьбы за существование, разработанная в объяснение долотообразной формы птичьих клювов, при жизни следующего поколения становится учением о том, что бедняки сами виноваты в том, что бедны. Теорию относительности измерения времени Эйнштейна можно извратить так, что и нравственность становится понятием относительным. Отследить ложные допущения бывает нелегко. На то, чтобы исказить принципы научной практики, уйдет секунда, а на то, чтобы их исправить, — семестр.
Практика немецкой антропологии, которой обучали Менгеле, состояла в том, чтобы измерять людей и подразделять их на типы сообразно расе, а широкомасштабно применяться она стала, что показал историк из Колумбийского университета Эндрю Циммерман, за полвека до того, как ее усвоил Менгеле. Впервые ее испробовали в 70‑х годах XIX века под руководством ученого безупречно‑либеральных убеждений — Рудольфа Вирхова, который тогда был одним из самых громогласных борцов с антисемитизмом; на выборах в рейхстаг Вирхов соперничал со скандально известным антисемитом‑агитатором и выиграл. Подразделив школьников на «блондинов» (нордический тип) и «брюнетов» (всех остальных), Вирхов и впрямь обнаружил, что «среди общего числа школьников встречалось чуть более 14% брюнетов, а среди евреев — 42%». Мы, глядя на эти цифры, можем счесть, что единообразие, подвластное замерам, среди евреев проявлялось весьма слабо. Но люди вычитывают из цифр то, что хотят в них видеть, — совсем как при покупке игроков бейсбольными клубами; в данном случае из цифр вывели не то, что евреи отличаются от других почти неуловимо, а то, что евреи — совершенно Другие. Глубокий анализ цифр, проясняющий, что они на самом деле означают и чего не означают, — процесс сложный, это все равно как объяснить, почему высокий средний процент отбитых мячей не может точно предсказать победу в бейсбольном матче: нужно долго смотреть на игру, чтобы понять, что к чему, а не заключать контракт наспех. Вот так идею объективизирующих стандартов измерения людей запросто объединили с (противоречащим дарвинизму) представлением, что замеряете вы не индивидуальные вариации, а расовую сущность, что расы — все равно что биологические виды и существуют как застывшие, неизменные типы, которые якобы можно различить и вычислить неизменными методами измерений.
Изучая под руководством Моллисона человеческие челюсти, Менгеле заключил: «Челюсти исследованных расовых групп в своих передних отделах указывают на столь отчетливые различия, что позволяют вам различать расы». Это все равно что попытаться изучить двигатель внутреннего сгорания, оглядев все автомобили, припаркованные на некоей улице. В результате у вас будет вроде бы существенная таксономия размеров ветрового стекла и вмятин на бамперах, но вы ничего не будете знать даже о том, что во всех этих машинах один и тот же мотор, ни тем более о его устройстве.

Даже по политизированным меркам этого направления Менгеле был посредственным студентом. Вот какой отзыв написал на его диссертацию Моллисон: хотя «ее несколько портит неуклюжая манера подачи и выражения мыслей, ее можно счесть соответствующей положенным требованиям»; на ученом жаргоне любой эпохи это равносильно «четверке с минусом». Менгеле был достаточно способным, чтобы учиться у именитых профессоров и заручиться их поддержкой, но недостаточно способным, чтобы далеко пойти в их мире.
Позднее он написал еще одну диссертацию — теперь по медицинской генетике, изучая наследование врожденной расщелины нёба, и его работа стала опорой для нацистских законов, которые обязывали проводить стерилизацию немцев с генетическими заболеваниями. В конце 1930‑х годов Менгеле пригласили работать экспертом‑консультантом по расовым типам — он оценивал такие изменчивые признаки, как группа крови, цвет глаз, форма бровей и отпечатки пальцев, для ответа на вопрос: фигурант судебного дела — чистокровный еврей или еврей наполовину? В одном случае еврея по имени Хайнц Александер обвинили в расовом преступлении — расовом кровосмешении — за связь с арийкой. В свое оправдание он заявил, что на самом деле он не чистокровный еврей, а незаконнорожденный сын арийца. (Йозефа Менгеле он не убедил.)
Когда читаешь, как Менгеле учился до войны, поражаешься: в эту несусветно детальную и пустопорожнюю науку о расовых различиях вливали гигантские ресурсы — и финансовые, и интеллектуальные. Когда Менгеле, только что вступив в СС в 1938‑м, на пороге войны, пожелал жениться на Ирене Шёнбайн — ей тогда был 21 год, — Управление СС по вопросам расы проследило ее генеалогию вплоть до 1648 года, выискивая, не загрязнили ли ее неарийские примеси, а не сумев в точности установить расовую принадлежность ее деда по отцу, отказалось внести Ирене в свой «клановый реестр». (Нацистские правила «расовой чистоты» были вдохновлены законами южных штатов США об «одной капле» и «доле крови», но заходили не столь далеко — ведь американские законы не признавали белыми даже тех, у кого чернокожим был всего один отдаленный предок. Точно так же, как Гитлер уподоблял свое покорение «Востока» американскому покорению Запада, худшие страницы нашей истории поощряли худшие инстинкты нацистов.
Казалось бы, обычно расизм может расцвести пышным цветом, обходясь без такого объема количественных данных. В Средневековье антисемитизму вполне хватало слухов о замешанной на крови маце. Но вся эта расовая наука была не просто средством, а навязчивой идеей. Нацистские интеллектуалы действительно верили во все это. Одержимость анатомией и специальная терминология для описания расовых различий создали своего рода интеллектуальный панцирь или щит, оберегавший их от критики. Была выстроена альтернативная интеллектуальная вселенная с собственными науками и собственным ученым сообществом, дабы гарантировать, что все, причастные к нему, не будут видеть в своей работе ничего ненормального: они ученые, занимаются наукой. Именно интеллектуальная цельность и намеренная самоизоляция отличали нацистов от консерваторов с коммерческой жилкой, с которыми нацисты часто сотрудничали, но в итоге их сожрали. Карьера Менгеле — напоминание о том, что, как бы на этом ни настаивали левые, нацизм — это не капитализм, снявший лайковые перчатки. Нет, нацизм был помешательством, надевшим белый халат, — верой, в основе которой, как и в случае большинства крупных исторических движений, были не интересы, поддающиеся анализу, а пламенные идеи.

Менгеле служил в дивизии ваффен‑СС «Викинг», жутковатой даже по нацистским меркам, — состояла она в основном из иностранных добровольцев‑арийцев, — а в мае 1943 года был направлен в Аушвиц. У эсэсовцев это считалось завидным назначением: там можно было убивать людей, не опасаясь, что убьют тебя. В Аушвице Менгеле прославился как злодей из злодеев именно потому, что, судя по всему, любил свою работу. О его спокойствии духа и отличном настрое вспоминают многие, в том числе и еврейские ученые, насильно прикомандированные ему в помощь; воспоминания эти, занимающие целые страницы, производят весьма макабрическое впечатление.
Однако Маруэлл показывает, что Менгеле ставят «в заслугу» больше селекций, чем он мог бы провести единолично. Один выживший узник написал: «Если какого‑нибудь эсэсовца вновь и вновь упоминают публично в связи с особо чудовищными деяниями, не исключено, что выжившие узники спроецируют на него свой опыт… Я не раз слыхал от выживших узников, что Менгеле сделал с ними то‑то или то‑то, хотя на тот момент Менгеле в Аушвиц еще не прибыл». Ему приписывали преступления, совершенные всем штатом Аушвица. Похоже, на нем сосредоточились из‑за его ужасающего спокойствия и скрупулезности, с которыми он сортировал узников на тех, кого надлежит срочно уничтожить, и на тех, кого (ненадолго) щадили, а также из‑за того, что он неизменно сохранял хладнокровие, а сохранял он его, как предположил один из его коллег, не столь уверенный в себе, оттого что, в отличие от остальных, признавал: все евреи «мертвы уже по прибытии». Он сортировал призраков — не людей.
Экспериментами — вот чем Менгеле упрочил свою репутацию отъявленного злодея. Он создал в Аушвице свой исследовательский институт, связанный с почтенным берлинским ученым учреждением — Институтом антропологии имени кайзера Вильгельма. То, что он, ничуть не кривя душой, соорудил панцирь вроде бы нормальной научной деятельности, в особенности леденит кровь. Например, нередко полагают, что его печально известные исследования близнецов были просто‑напросто потугами повысить рождаемость немцев, а именно разработать секретный метод, благодаря которому все немки будут производить на свет близнецов. На самом деле, как показывает Маруэлл, эти исследования продолжали научную работу того рода, которой занимались везде в мире. Преобладало мнение, что для генетики однояйцевые близнецы — аналог Розеттского камня , ключ к шифру, который позволит ученым разгадать шифр и установить, что важнее — наследственность или воспитание. Работая вместе с женщиной‑ученым Карин Магнуссен, столь же омерзительной, как и он, Менгеле собирал в лагере «урожай» глаз, вырезая их у близнецов народности синти , у которых был синдром гетерохромии радужной оболочки — это когда глаза разного цвета. Задачей была не какая‑то дьявольская генная инженерия с целью изменить окраску глаз — тогда речь шла бы всего‑навсего о косметической корректировке. Нет, целью было загодя накопить достоверные данные перед разработкой «прикладной генетики», с тем чтобы «устанавливать отцовство и родословную», — генетики, которая сортировала бы людей на Übermenschen и Untermenschen . Работа Менгеле в Аушвице была тем, что мы назвали бы «чистой наукой». Маруэлл — он, очевидно, обнаружил не вполне то, что ожидал, — пишет:
«Своей наукой он занимался не так, как какой‑нибудь отступник, движимый исключительно злодейскими и противоестественными порывами, — нет, он работал так, что его учитель и коллеги сочли бы его методы отвечающими высочайшим критериям… Представление о Менгеле как о разнузданном субъекте, движимом темными страстями и дававшим волю своим садистским причудам, следует заменить еще более настораживающим портретом. На самом деле Менгеле шел в авангарде науки, пользуясь доверием и наставлениями светил своей области исследований. Наука, которой он занимался в Аушвице, — в той мере, в какой мы можем ее реконструировать, — не была отклонением от нормы, скорее она соответствовала исследованиям других ученых, считавшихся научным истеблишментом».
К этому можно добавить лишь одно примечание: немецкий «научный истеблишмент» давно продал дьяволу и душу, и измерительные приборы. Ученые в Берлине и Граце, охотно принимавшие из института Менгеле отрубленные головы, вырезанные глаза и скелеты, потеряли представление о морали задолго до этих посылок с образцами. Никто не утверждает, что исследования близнецов или цвета глаз, проводившиеся Менгеле, при всех своих сатанинских истоках имели долговечную ценность. (Это можно утверждать, например, если речь идет об исследованиях нацистских конструкторов ракет: научная база была правильная, хоть ракеты и поражали не те города.) Генетические механизмы, отвечающие за цвет глаз, никогда не удалось бы разгадать, вырезая в массовых масштабах — трудно вообразить нечто более чудовищное — глаза. Антропологи в Берлине и Мюнхене уже успели убедить себя, что их фанатичная тяга к инвентаризации и сбору анатомических препаратов сама по себе настолько благородна, что сомневаться в ее моральности бессмысленно. На поверку Менгеле не был обезумевшим ученым. Все обстояло еще хуже. Он участвовал в исследованиях на ниве обезумевшей науки.
Маруэлл с ужасом и изумлением описывает, в каком комфорте проживали нацистские врачи посреди разгула смерти. Километрах в тридцати от газовых камер у них был специальный «сублагерь», служивший чем‑то вроде буколического дома отдыха. Мужья и жены регулярно навещали их, а офицеры СС и их супруги постоянно давали званые ужины. А тем временем совсем неподалеку, в лагере, валил к небу дым. В этом мире Менгеле был счастлив: на фотографиях он улыбается, и даже раб из узников, гревший ему воду для ванны, назвал его «вежливым». Всякий раз, когда некое представление о морали прорывалось в этот тесный закрытый кружок, особого рода единение — такое свойственно плохим актерам — сплачивало группу. Руководство СС, от Гиммлера до командиров более низких рангов, вновь и вновь втолковывало последователям, что они уже перешли грань: если они не выполнят свою задачу, дети выживших с ними расправятся. Такова коллективистская логика экстремизма. Гарантировать солидарность в группе убийц могут только садистские зверства, в которых — хочешь не хочешь — участвуют все. Вот почему в байкерских группировках и мафиозных кланах мы повсеместно видим кровавые ритуалы «посвящения в члены банды»: чтобы завоевать уважение, ты должен сжечь мосты. Лидер‑фанатик убеждает приверженцев не в том, что это единственный путь вперед, а в том, что обратного пути нет.
Послевоенное бегство Менгеле из Европы было на удивление неспешным. Он заехал в Мюнхен — возможно, чтобы забрать материалы своих исследований, которые посылал из Аушвица, а затем прожил больше трех лет на баварской ферме — под чужим именем, в качестве наемного работника. Печальная (и она не одна) ирония «жизни после Аушвица»: у большинства эсэсовцев, как и у их жертв, были татуировки, у эсэсовцев — на случай ранения, чтобы им перелили кровь совместимой группы. После войны это упростило опознание эсэсовцев, но Менгеле — вероятно, из тщеславия — сумел от этого увильнуть.
В 1949 году он перебрался в Южную Америку при содействии Красного Креста — наряду с созданной католическим духовенством «крысиной тропой» это был один из двух самых эффективных способов побега для экс‑нацистов — и получил паспорт более или менее по первому требованию. Едва он прибыл в Южную Америку — после Аргентины уехал в Парагвай, а в конце концов обосновался в Бразилии, — его стала оберегать самоорганизованная сеть немецких и австрийских экспатов. В Бразилии Менгеле много лет растил кофе и скот на пару с венгерской четой, хранившей его секрет взамен на новую ферму, оплаченную его покровителями.
Израильтяне пытались отслеживать его передвижения, но ни разу не пытались его похитить. Отчасти это объяснялось вопросами политики. Израилю, несомненно, приходилось решать, что важнее — изловить военных преступников или риск восстановить против себя потенциально полезных партнеров — южноамериканские правительства. Логика также подсказывает, что средства «Моссада», как и любого государственного ведомства, были ограничены, а заданий — полным‑полно. Но вот что возмущает: Менгеле на положении беглеца не особенно‑то и бегал — он управлял фермой, остерегался воображаемых преследователей, времени ему хватало, чтобы жениться, ездить отдыхать и даже регулярно переписываться с сыном Рольфом, жившим в Германии. Умер Менгеле в 1979 году, на отдыхе, — его сразил инсульт, когда он купался.
Друзья похоронили его под вымышленным именем Вольфганг Герхард, а затем — на них надавила западногерманская и бразильская полиция — раскрыли место его захоронения. Но немцы и израильтяне, а также американцы — к тому времени, побуждаемые Ала Д’Амато, сенатором от Нью‑Йорка, они принялись охотиться на Менгеле по политическим мотивам — усомнились в принадлежности останков. Они переоценивали тягу Менгеле и его приближенных к изощренной, как в кино, секретности — масштабным пластическим операциям и инсценировкам смертей, тогда как Менгеле жилось спокойно по совсем другим причинам — из‑за вялости его преследователей и моральной неразборчивости его покровителей.
В июне 1985 года в Сан‑Паулу прибыл «десант» из нескольких групп патологоанатомов, судебно‑медицинских антропологов и других специалистов из Германии и США, в том числе сам Маруэлл (он тогда работал в Управлении особых расследований Министерства юстиции США); им предстояло установить, действительно ли это останки Йозефа Менгеле. И методы опознания преступника были, в сущности, разновидностью физической антропологии — той самой науки, которой обучался Менгеле, — иронии невероятнее и представить нельзя. Сделали замеры, осмотрели лонное сочленение на предмет износа; бедренные кости разрезали поперек, а по ребрам определили, в какой степени они стали «чашеобразными». Наконец, немцы прибегли к новейшему методу: две видеозаписи с высоким разрешением — череп покойного и прижизненное фото Менгеле — наложили одна на другую. Да, это был Менгеле, и «определенность», эта диковинная добыча, наконец‑то была отловлена. Вся эта тевтонская, с точностью до микрона, скрупулезность теперь была поставлена на службу не злокачественным вымыслам о создании расовых категорий, а тому, как отличить одного человека от всех остальных. Что существует на свете, так это индивиды, и то, что мы можем уловить, — это их индивидуальные черты; а обширные общности индивидов, объединенные по признакам гражданства, класса, образа мыслей, характера, все еще слишком разнообразны, чтобы их измерить.
Немецкий историк Гёц Али, чья книга «Народное государство Гитлера: грабеж, расовая война и национальный социализм» — одна из самых высоко оцененных работ о Третьем рейхе, вышедших за последние два десятка лет, недавно выпустил в английском переводе свою новую книгу «Европа против евреев: 1880–1945» (издательство «Метрополитен»). Книга эта — что‑то вроде постскриптума к делу Менгеле. Написать ее Али побудили две причины. Во‑первых, он хотел показать, насколько европейский антисемитизм был широко распространен во всей Европе и идеологически завершен. От Франции до Польши и Румынии с Венгрией — в каждой стране в XIX веке существовал антисемитский инстеблишмент, часто опиравшийся на католиков правых убеждений, но не менее часто — на левых социалистов, которые поносили евреев так же злобно, как и их более поздняя разновидность гитлеровского толка. Антисемитизм, рисовавший в воображении выселение и подразумевавший истребление евреев, был повсеместен. Никого не требовалось подталкивать к преследованию евреев. Оно стало возможным в обстоятельствах военного времени, но еще раньше многие во всей Европе жаждали приступить к нему как можно скорее.
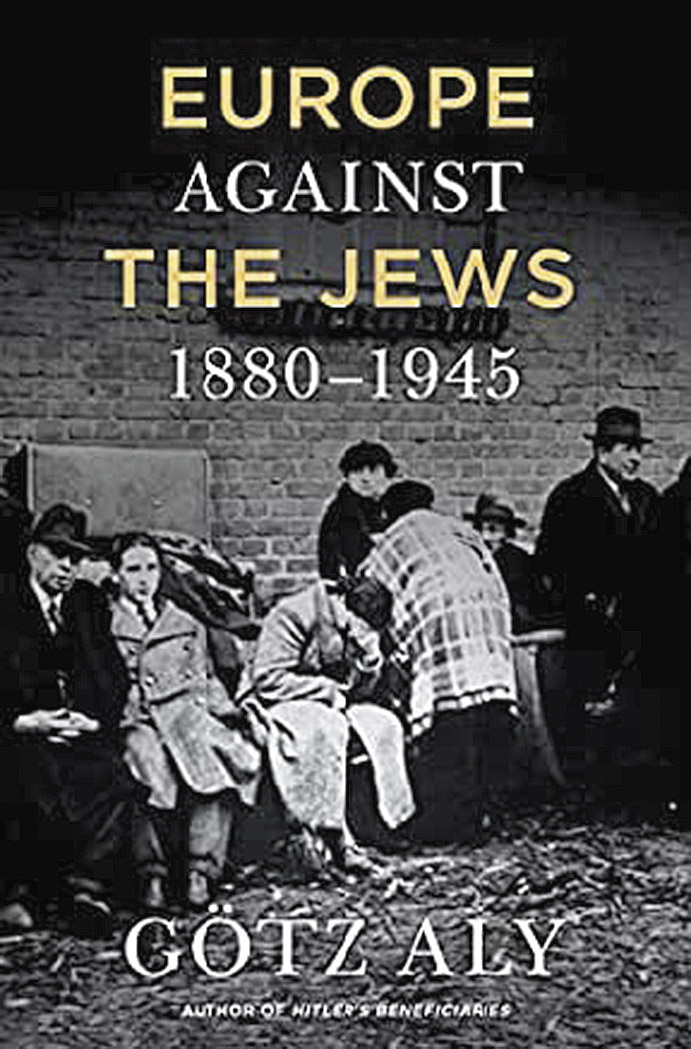
Götz Aly
Europe Against the Jews, 1880–1945
Европа против евреев: 1880–1945
Metropolitan Books. 2020. 400 c.
Второе направление исследования Али — более тонкий вопрос: отчего они так рвались преследовать евреев? Он разграничивает классический антисемитизм средневекового извода — тогда евреев воспринимали попросту как чужаков и штамм Нового времени — его породило ощущение, что евреи лучше них, и с этим невозможно мириться. Началось состязание нового типа — первый ход в нем сделали евреи, и это дало им преимущество. В XIX веке они раньше всех сообразили, что в новом мире эпохи модерна продвижение по соревновательной линии — благодаря успешной сдаче экзаменов — станет альтернативой продвижению благодаря родословной. Почему евреи преуспевали в обществах, где придавалось значение сдаче экзаменов в той или иной форме, — сложный исторический вопрос, хотя, возможно, все куда как просто — ради этого требовалось лишь «перепрограммировать» традицию изучать Талмуд. И вот что парадоксально: только когда в это соревнование втянулись и стали нагонять упущенное группы людей «титульной национальности», они взъярились на евреев еще пуще. «По мере того как уменьшался разрыв в уровне образования, усиливались трения между евреями и большинством населения, — пишет Али. — Зависть рождается не из‑за дистанции между двумя четко разграниченными группами в обществе, а из‑за того что люди живут бок о бок».
Под этот принцип идеально подходит дело Дрейфуса 1894 года, позднее давшее толчок к «эффекту домино»; не случайно оно произошло во Франции — первой европейской стране, «открывшей талантам дорогу к карьере». Самый страшный грех капитана Дрейфуса был не в том, что он Дрейфус, а в том, что он капитан. Схема Али также, хотя он не ссылается на это дело, идеально накладывается на биографии нацистов: Гитлер обозлился на венских евреев не за то, что они предпочитали искусство сельскому хозяйству, а за то, что его не приняли в художественную школу. Геббельс был не подстрекателем черни, а неудачливым автором философских романов. И в то время, и нынче круги вожаков популистов обычно состоят из озлобленных участников конкурсов, которым поставили четверку с минусом.
И, таким образом, мы подходим к последнему и доныне поучительному уроку, который дает изучение нацистов сегодня: мы можем увидеть, насколько тесно истребление евреев связано с ненавистью к космополитизму. Хотя среди жертв массовых убийств изобиловали религиозные евреи‑бедняки из Восточной Европы — много крестьян, разносчиков и мелких лавочников, — главным врагом, на взгляд Менгеле, всегда были образованные евреи Западной Европы. Однажды, когда один врач‑эсэсовец размышлял вслух, зачем надо убивать всех бедных евреев Восточной Европы, Менгеле, как он помнит, объяснил ему, что «именно из этого людского резервуара евреи черпали новые силы и так освежали свою кровь. Без бедных, но якобы безобидных восточных евреев цивилизованные западноевропейские евреи не были бы способны выжить. Следовательно, необходимо уничтожить всех евреев». Массы религиозных евреев‑бедняков Польши были чуть ли не побочными жертвами этих усилий: истинной мишенью была элита, занесшая бациллу космополитизма.
В замечательной новой пьесе Тома Стоппарда «Леопольдштадт» — эта хроника жизни досконально ассимилированной еврейской семьи начинается в Вене ее «золотой эпохи» перед Первой мировой войной — рождественскую елку в их доме венчает звезда Давида — последняя, душераздирающая сцена разворачивается в 1950‑х годах. Человек, чья ближайшая родня вовремя бежала, возвращается на родину и на радостях принимается расспрашивать о родственниках, которых знал в детстве. Перечисляет одно имя за другим: Эрнст? Аушвиц. Ханна? Аушвиц. Выясняется, что все его родные с их недостатками и причудами погибли от рук разных Менгеле нашего мира. Под конец зрители — уникальный на моей памяти случай — сидят молча, даже аплодировать актерам не в состоянии. Но Стоппард вызвал именно тех духов, что нужно: уничтожение вот таких венских семейств — безобидных, счастливых, космополитических — было заветным желанием Гитлера, который в Вене, молодым неудачливым художником, открыл для себя антисемитизм как панацею от всех разочарований. Ради достижения своей цели он был готов уничтожить европейскую цивилизацию — и уничтожил.
Оригинальная публикация: Revisiting Mengele’s Malignant “Race Science”

Исчезновение Йозефа Менгеле

The Times of Israel: «Моссад» предпочел не ловить Менгеле?

