Такие люди были раньше
Авром Рейзен (1876–1953) — еврейский прозаик, поэт, драматург, уроженец Минской губернии. Его юношеские литературные опыты были замечены классиками И.‑Л. Перецем и Шолом‑Алейхемом. В 1911 году он эмигрировал в США, публиковал свои произведения в «Ди цукунфт» и газете «Форвертс». В 1928 году побывал в СССР, тогда же, в конце 1920‑х и в 1930‑х, в СССР вышло несколько его книг на идише и в русском переводе. Ныне издательство «Книжники» готовит сборник рассказов Рейзена под названием «Такие люди были раньше»: эта книга станет возвращением писателя к русскоязычному читателю спустя почти 90 лет.
Профессионал
В это особое кафе, где собираются только знакомые, а если изредка забредет посторонний, то подозрительно оглядывается по сторонам, не понимая, куда он попал, — в это кафе вошел мужчина немного за тридцать, поискал глазами место для себя и для чемоданчика, который он гордо держал в руках, и присел за стол, где нашлось два свободных стула. Он поздоровался со всеми сидевшими за столом, кто со стаканом чая, кто с тарелкой супа, кто с жарким, и крикнул официанту:
— Быстрей! Я спешу!
Достал из кармана золотые часы, внимательно посмотрел на циферблат и, увидев, что времени у него совсем мало, опять поторопил официанта.
— Что вы так суетитесь, товарищ Липман? — спросил один из знакомых посетителей.
— Некогда мне! Сейчас в турне по провинции уезжаю, — с достоинством ответил Липман.
— И о чем там говорить будете?
— Да так, о социализме языком чесать. — Липман усмехнулся.
— Условия‑то хорошие?
— Неплохие! — с довольной улыбкой ответил Липман. — Долларов пятьдесят в неделю за три лекции. Гостиница, билеты — все оплачивается.
— Отлично! — согласился знакомый.
Официант принес заказ. Липман опять посмотрел на часы, снял пальто и проворчал:
— Успеваю. Еще час в запасе.

Все это время молодой человек, тоже сидевший за столом, не сводил глаз с Липмана, с которым они были знакомы, и, наверно, хотел что‑то сказать, но не решался, отчего его лицо приняло мучительное выражение. Липман это заметил и с улыбкой повернулся к молодому человеку:
— Что же вы так многозначительно молчите, товарищ?
Молодой человек вздрогнул, покраснел и робко спросил:
— Простите, товарищ Липман, а как у нас раньше называлось то, чем вы занимаетесь?
— Что значит «как раньше называлось»? — удивился Липман. — Так же, как и теперь называется: пропагандировать социализм.
— Да, естественно… — Молодой человек засмущался, как девушка. — Конечно… Но раньше там, у нас или, наверно, уже можно сказать «у них», для этого было специальное слово.
— Вы, наверно, имеете в виду «агитатор», — вступил в разговор четвертый посетитель, в прошлом тоже из «таких».
— Нет, это не то. — Молодой человек потер ладонью лоб, его лицо посветлело, как у многих бывает при воспоминаниях о прошлом. — Вертится на языке… А, вспомнил! — воскликнул он с радостью. — «Профессионал»!
Господин Липман склонился над стаканом чая и ничего не ответил. Остальные двое собеседников с интересом посмотрели на молодого человека.
— Да, точно, профессионал. Так это называлось.
И, заметно оживившись, молодой человек продолжил:
— Я знал только одного из них, и это был очень несчастный человек. Вы не против, если я расскажу?
— Конечно, конечно! — согласились двое сидевших за столом.
Липман тоже не стал возражать:
— Ну, расскажите. У меня еще целый час до поезда.
И молодой человек начал свой рассказ:
— Это произошло лет десять–двенадцать тому назад. Я жил тогда в крупном провинциальном городе в Литве. Активным участником движения я никогда не был, но у меня хватало друзей и знакомых, которые играли в нем заметную роль, и при облаве полиция непременно удостаивала своим посещением мою скромную комнату. Ничего компрометирующего полицейские найти не могли, но мне всегда становилось очень неловко за мои любовные письма. Представьте себе, как толстый жандармский офицер, выпучив серые кошачьи глаза и ощерив рыжие усы, читает басом: «Дорогой мой друг…» Но это только к тому, чтобы вы поняли, какое отношение к движению я имел в те годы. Тогда я предпочитал снимать жилье на тихих окраинных улочках, и на одной из них я и познакомился с таким профессионалом.

Это был молодой мужчина с грустным, худым лицом, лет эдак двадцати восьми. Он всегда смотрел себе под ноги, поэтому трудно было разглядеть выражение его глаз. Мы жили в одном дворе. Он снимал убогую комнатушку, где они теснились с женой, тихим, незаметным созданием, и единственным ребенком, девочкой лет трех‑четырех, всегда бедно, но опрятно одетой, а личико у нее было такое же грустное и испуганное, как у отца. Я чаще встречался во дворе с его женой и дочкой, чем с ним самим. Большую часть времени он находился в разъездах, лишь изредка возвращаясь домой на одну‑две недели.
Его жена часто заглядывала ко мне занять пару кусочков сахару, немного керосину или попросить лист бумаги, перо и чернильницу. Наверно, они нуждались и во многих других вещах, но я редко заходил к ним в комнату. Однажды из любопытства я спросил:
— А чем ваш муж занимается?
Женщина смутилась и, глуповато улыбнувшись, ответила:
— Ой, лучше не спрашивайте. Не дай Б‑г такой заработок…
Я подумал, что, наверно, он меламед где‑нибудь в деревне, что в те годы считалось у молодежи позором. Но когда я высказал женщине свое предположение, она рассмеялась:
— Скажете тоже, меламед… Берите выше!
— Так что же он делает в своих поездках?
— Да мало ли что можно делать, всего и не расскажешь. Но спасибо за сочувствие, мой друг.
Потом мы познакомились поближе. У нас во дворе жили несколько евреев, и накануне Пейсаха там стало шумно и оживленно. Убогие домишки купались в солнечном свете, лучи скользили по крышам и покосившимся крылечкам. Обитатели двора приободрились, воспрянули духом, кажется, даже ростом выше стали.
Только мой сосед, приехавший на праздник к жене и дочке, выглядел тень тенью, даже солнце не могло растопить печаль, что лежала на его лице, на всей его сутулой фигуре.
«Какой‑то грех человека гнетет!» — решил я и с тех пор начал смотреть на него с подозрением и даже со страхом.
Но мне стало ужасно интересно, что же с ним произошло.
Мы сошлись. Оказалось, он образованный, радикально настроенный человек. Узнав от меня и вдобавок от своей жены, что я сочувствую рабочим, он признался, что является одним из лидеров пролетариата.
Тогда я подумал, что он бросил в полицейского бомбу или застрелил из револьвера, а теперь страдает от угрызений совести, потому что выглядел он совершенно измученным.
Когда он уехал, я стал выспрашивать у его жены, на вид тоже образованной и интеллигентной:
— Что же все‑таки с вашим мужем? Все время как в воду опущенный ходит, будто кого на тот свет отправил.
Она засмеялась:
— Да что вы, он добрейший человек! Сомневаюсь, что он таракана сможет раздавить.
— Почему тогда он такой несчастный? Похоже, его совесть совсем замучила.
Женщина погрустнела:
— Это верно. Ему и правда совестно…
— Но что случилось? — не отставал я. — Может, он свою первую невесту бросил и она с собой покончила?
Она опять рассмеялась:
— Я у него и первая невеста, и последняя.
Дело становилось все таинственнее. Я изо всех сил старался заслужить ее доверие. В конце концов мне это удалось, и бедная женщина открыла мне, какой грех совершил ее муж.
— Он профессионал! — Она всхлипнула и вытерла белым передником глаза.
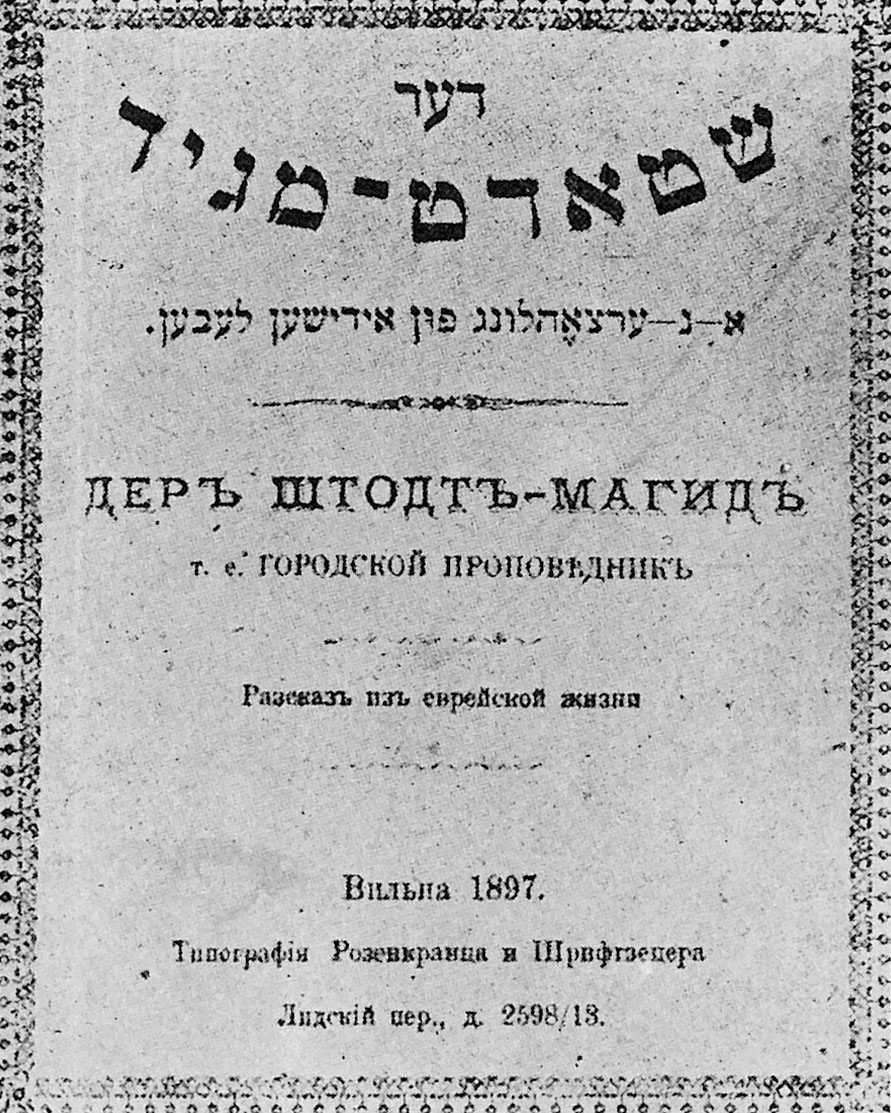
— Разве это преступление?
— Не преступление, но и ничего хорошего. До нашей свадьбы он был предан рабочему движению душой и телом, работал задарма, ни гроша не получая. Но потом мы поженились, дочка родилась, и не в добрый час комитет определил ему жалованье.
— И сколько он получает?
— Сколько? Разве он будет требовать много? Или я? Не деньги, а так, пыль небесная. Хватает только, чтобы душа в теле держалась. Иногда три рубля в неделю, иногда четыре. Не был бы он так предан движению, сотню бы в месяц зарабатывал. Он раньше бухгалтером служил в банке.
— Святой человек! — Я был так восхищен, что чуть не бросился в ноги этой идеальной женщине.
— Тоже мне святой! — покачала она головой. — Перед людьми стыдно. Думаете, это хорошо — быть профессионалом? Он себя преступником чувствует, да и я тоже. Люди за деньги работают, а он просто так. В огонь и воду готов за рабочее движение! Но нас‑то с ребенком куда девать? А я пойти работать не могу. Вот нас совесть и мучает.
Молодой человек закончил рассказ и посмотрел на слушателей, будто чего‑то от них ожидая.
Но они молчали. История, рассказанная в нью‑йоркском кафе, очаровала их, как старинная легенда.
Первым очнулся товарищ Липман:
— Да, попадались раньше наивные люди. — Широко улыбнулся и добавил: — Когда‑то я и сам был таким.
И, прихватив чемоданчик, отправился агитировать рабочих за социализм.
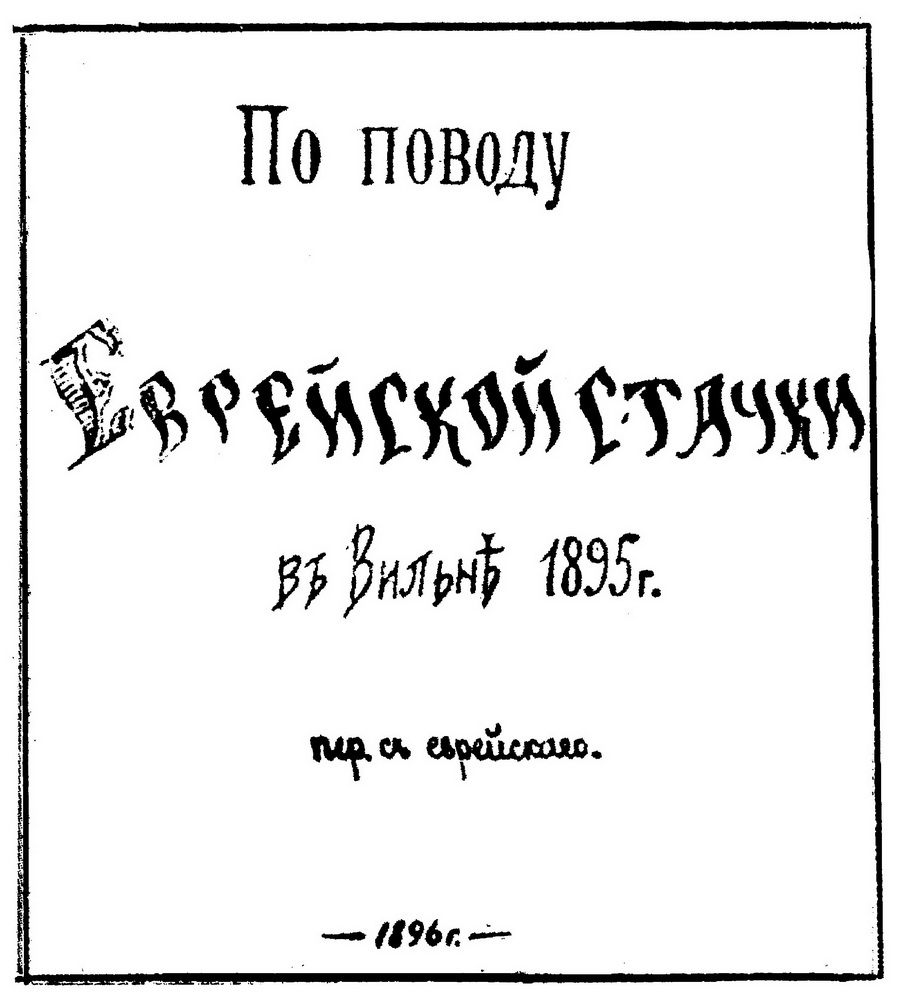

Такие люди были раньше

Такие люди были раньше

