Такие люди были раньше
Авром Рейзен (1876–1953) — еврейский прозаик, поэт, драматург, уроженец Минской губернии. Его юношеские литературные опыты были замечены классиками И.‑Л. Перецем и Шолом‑Алейхемом. В 1911 году он эмигрировал в США, публиковал свои произведения в «Ди цукунфт» и газете «Форвертс». В 1928 году побывал в СССР, тогда же, в конце 1920‑х и в 1930‑х, в СССР вышло несколько его книг на идише и в русском переводе. Ныне издательство «Книжники» готовит сборник рассказов Рейзена под названием «Такие люди были раньше»: эта книга станет возвращением писателя к русскоязычному читателю спустя почти 90 лет.
Цензор
Среди пишущей, но непечатающейся братии первой скрипкой был поэт Шейнман. Остальные злились, огорчались, предъявляли всему миру претензии, а Шейнман всегда ходил с гордой, но добродушной улыбкой на алых губах и ни к кому претензий не имел. Более того, он был рад, что его творения не печатают, и на тех, кто печатается, смотрел свысока.
Он даже придумал афоризм и любил ввернуть его, когда заходил разговор о литературе. Звучал афоризм так: «Печататься — не фокус, не печататься — искусство».
Шейнману очень нравился этот афоризм, на первый взгляд простенький, но на самом деле с глубоким смыслом. Этим высказыванием Шейнман прозрачно намекал, что его вещей не публикуют, потому что они слишком злободневны и цензор не пропускает их в печать.
По крайней мере, так утверждал редактор, которому Шейнман приносил свои произведения.
Редактор, человек вежливый, мягкий, не мог отказать прямо в лоб, тем более что Шейнман был не последней фигурой в литературном движении, которое тогда набирало силу, чуть ли не лидером всех непечатающихся поэтов. Это была заметная роль — предводитель гонимых, униженных и оскорбленных юношей. Зная об этом, редактор уважал Шейнмана. К тому же Шейнман и правда был очень достойным молодым человеком: прекрасно знал древнееврейский, читал по‑польски, по‑русски и по‑немецки и одевался как настоящий интеллигент. Непременно белоснежный воротничок, и неважно, что бумажный. Это же для виду, никто руками трогать не будет.
Одним словом, с таким человеком, как Шейнман, лучше быть поосторожнее, и поначалу, когда он приходил узнать, что там насчет его поэмы в прозе (он в основном писал без рифмы, как многие из тех, кого не печатают), редактор терялся. Скажи правду — обидится. Но однажды редактору пришла в голову отличная идея: цензор!
Цензор‑то и правда был зверь. Солдафон, фельдфебель! В каждом слове намек видел…
И этот цензор оказался для редактора настоящим спасением от Шейнмана с его поэмой в прозе.

— Понимаете, пан Шейнман… — редактору было очень стыдно врать поэту в глаза, но что поделаешь. — Понимаете, цензор вашей поэмы не пропускает. Слишком злободневно, слишком резко!
— Ага! — Шейнман очень обрадовался, что цензура увидела в его поэме опасность. Он поправил бумажный воротничок. — Ага… И что же, например, он там такого нашел?
— Много чего! — редактор заговорил увереннее. — У вас тут про осла, так цензор все допытывался: «Кого он под ослом подразумевает?» Вы бы поосторожнее, пан Шейнман…
Пан Шейнман, собственно говоря, под ослом не подразумевал никого, кроме осла, настоящего осла, которого он решил воспеть за его терпеливость, но Шейнману понравилось, что цензор усмотрел тут какие‑то намерения. Значит, он, Шейнман, отчаянный человек, готовый в тюрьму пойти за свои вольные мысли.
Он сразу возгордился, вспомнил, что Достоевский за свое острое перо четыре года провел на каторге, вспомнил Короленко, чью биографию он отлично знал. Теперь он с ними в одном ряду! Написал поэму про осла, но это не осел, а тот самый… Что ж, цензор верно понял его мысль.
Шейнман как на крыльях полетел к друзьям‑поэтам, которые тоже не могли напечататься, а его считали своим атаманом, предводителем и проводником. Ему не терпелось поделиться радостной новостью:
— Редактор не может мою поэму напечатать!
Гонимые поэты хотели выразить своему вождю соболезнования, но заметили, что он так и светится от радости.
— Я вижу, — сказал один, — вы не принимаете это близко к сердцу, пан Шейнман.
— Наоборот, меня это радует. Я счастлив! Я горжусь собой! — И, переведя дух, объяснил: — Моя поэма — шедевр! Размах мысли, полет фантазии! Это аллегория! Она произвела бы сенсацию, редактора сослали бы в Сибирь, а меня сгноили в тюрьме!
Гонимые поэты слушали его с ужасом и удивлением. Самый гонимый, которому из редакции ни разу даже письма не прислали, побелел как мел, встал и чуть слышно спросил:
— Что же в ней такого?
— Есть там кое‑что, — улыбнулся Шейнман. — Одна мелочь — осел. Осел!
— И что? — не поняли поэты.
— Вот цензор к нему и прицепился. Догадался, что я имею в виду, понятно? И не пропускает в печать.
Поэтов охватила зависть.
И ведь было чему завидовать! Цензор не пропустил — им такое счастье и во сне не снилось. Их не печатают просто потому, что они пишут слабо. А Шейнмана, конечно, печатали бы, но его произведения слишком остры, смелы, опасны.
А он писал одну за другой поэмы в прозе, приносил редактору и, получив обратно, улыбался:
— Опять цензор не пропустил. Слишком злободневно!
Ходил и, довольный, хвастался:
— Я не могу абы как сочинять, у меня все со смыслом. Вот, например, последняя вещица, казалось бы, невинная сказка про птичку. Думаете, цензор не догадался, что под птичкой я подразумеваю свободу? Еще как догадался! Передал через редактора, чтобы я был осторожнее, не только напечатать не пытался, но даже рукопись уничтожил. Видно, добра мне желает. Знаете, — все больше воодушевлялся Шейнман, — он благородный человек, этот цензор. Спасибо ему за это…
Но вдруг народу даровали конституцию, и величию Шейнмана пришел конец.
Цензор вмиг потерял свою должность, а вместе с ним Шейнман потерял возможность оставаться злободневным поэтом. Если разрешено писать что угодно, какой смысл себя обманывать?
И он отдал свое перо гонимым поэтам, а сам уехал в Америку деньги зарабатывать.
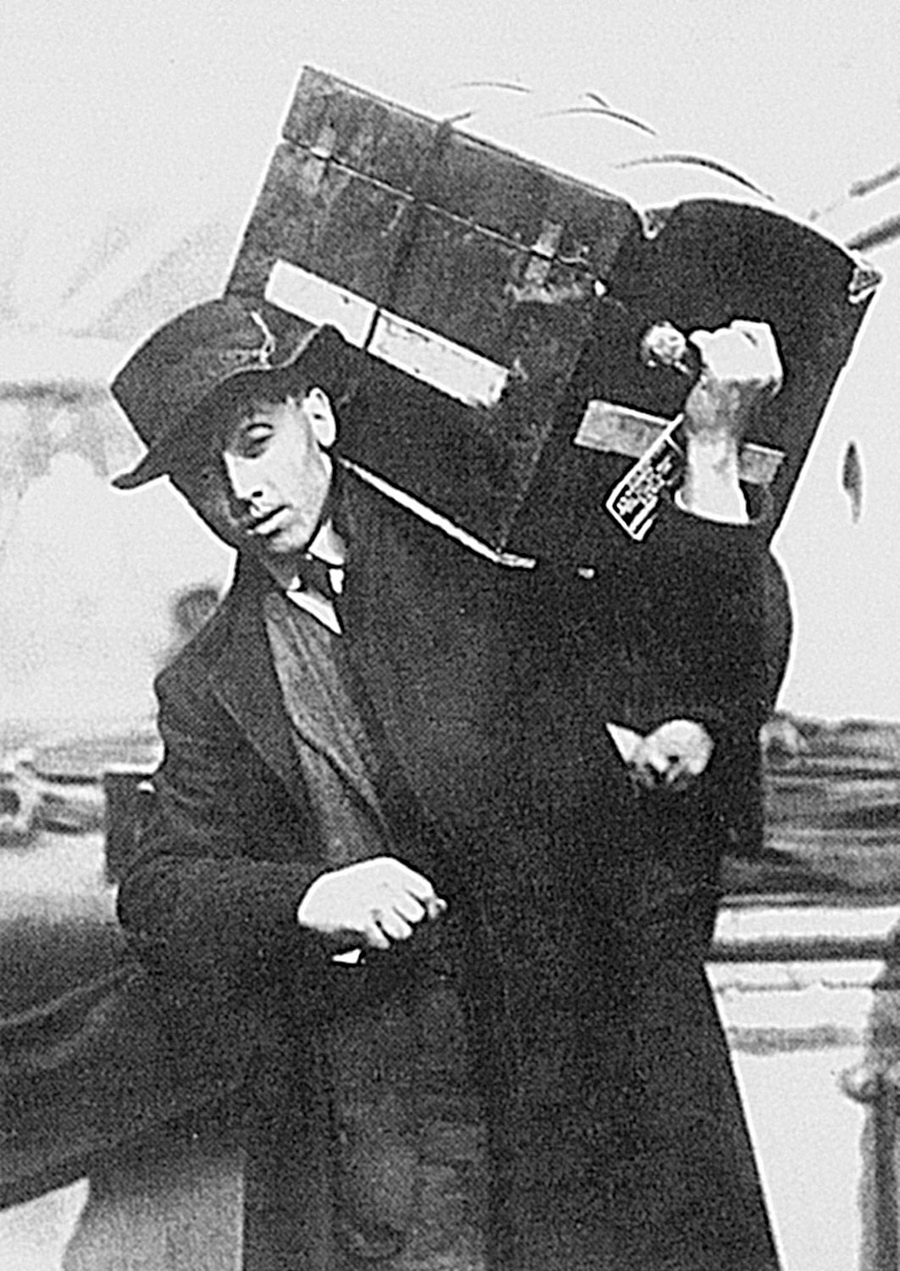
Но оказалось, от судьбы не уйдешь. В последнее время Шейнман носится с великими идеями, которые пытается воплотить в нерифмованных поэмах. Надо только дождаться, чтобы в Америке появились цензоры, как раньше там.
Тогда он покажет здешним редакциям, на что он способен.
Что ж, будем надеяться, что в Америке создадутся подходящие условия и Шейнман опять станет поэтом. Очень жаль, если такой талантище пропадет.

Такие люди были раньше

Такие люди были раньше


