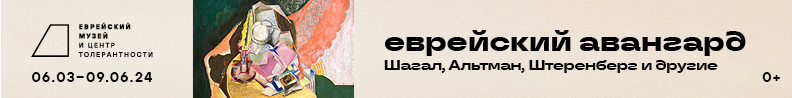Сыграть Шагала
Игровой фильм о Марке Шагале вышел наконец на экран. Но едва ли работы художника полюбят после этого в России больше.
Забавно, что в отношении выбранных героев Александр Митта оказался провидцем. Фильм уже был смонтирован, когда мир увидел церемонию открытия последней Олимпиады. «Моя идея о том, что Россию знают в мире именно по работам Марка Шагала и Казимира Малевича, — признался режиссер, — подтвердилась: на открытии Малевич представлял целую эпоху, а Шагал — на закрытии».
И все же это фильм не о тандеме, а именно о Шагале, о котором Александр Наумович давно мечтал снять кино. В 1969-м вышел его фильм «Гори, гори, моя звезда», в котором один из героев, художник (его играл Олег Ефремов), имел своим прообразом как раз Марка Шагала. Тогда это не очень считывалось, о главном еврейском художнике в то время не то что не говорили публично — в музеях работы его хранились только в запасниках.
И вот новая попытка. Уже с привлечением Малевича. Инцидент, произошедший между двумя величайшими художниками в родном Шагалу Витебске, оказался той удобной, единственно возможной интригой, которая стала основой сценария, написанного самим Миттой. Юный Шагал, благостный, образца 1917 года, вернулся из Парижа и создает в Витебске школу революционного искусства. Казимир Малевич сидит в Петрограде без копейки, и тут, в 1919-м, Шагал приглашает его преподавать. А кончается все тем, что первый супрематист уводит учеников за собой, Шагал изгнан…
Распространенный, в общем, сюжет. Но не про то, что один хороший, другой плохой и была у зайчика избушка лубяная, а у лисы — ледяная. Присущая Шагалу бесконфликтность, многократно спасавшая его, счастливое свойство характера, позволившее прожить ему счастливо, успешно и безбедно до 98 лет, в те годы оказалась неуместна на родине. В то время как новатор и экспериментатор Малевич был востребован как никогда. Фильм — об этом и еще о том, что могло бы случиться с Шагалом, останься он здесь.
Но между идеей и воплощением — бездна. Хотя бы потому, что трудно и страшно «оживлять» Шагала и Малевича, каждый шаг которых, да что шаг — каждый чих известен, остался если не в их собственных воспоминаниях, то в свидетельствах современников. И тут те же источники: из книги «Моя жизнь» и чужих мемуаров взяты реплики Шагала, цитатами из своего манифеста глаголет Малевич. Исполнители главных ролей Леонид Бичевин (Шагал) и Анатолий Белый (Малевич) такими их и играют: один миролюбив и лучезарен, другой тверд и непримирим. Кто-то посчитал, что играют плохо и хуже красавчика Бичевина в картине только студентка ГИТИСа Кристина Шнайдерман, исполнительница роли Беллы Шагал. Но дело, боюсь, не в недостаточном актерском мастерстве, а в жесткой руке режиссера, для которого актеры здесь как кисти с красками, недаром Митта говорит, что живопись любит гораздо больше, чем кино. Он словно специально обезличивает актеров, ограничивая их свободу единственной функцией — стать безропотным инструментом в его руках. Ибо фильм — не просто байопик. Драматический сюжет дополнен фантазиями, рассказан с явными гротесковыми интонациями, разукрашен анимацией, оживляющей знакомые живописные образы и превращающей реальную жизнь в картины.
Во-первых, это красиво. Но красиво и только. Дело даже не в биографических неточностях, гротесковая составляющая как будто не докручена и оттого неубедительна. Как и лубочные сцены еврейской жизни. Как и вторая сюжетная линия — выдуманный друг детства Шагала, ушедший в комиссары Наум (Семен Шкаликов), безнадежно влюбленный в Беллу. И неожиданно естественный на общем фоне ребе, сыгранный Дмитрием Астраханом. Когда режиссерский ход не доведен до абсолюта, жертвы напрасны.
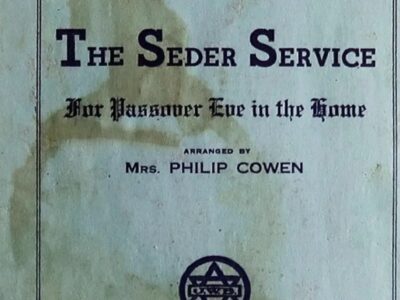
Первая Пасхальная агада, ставшая в Америке бестселлером

Дайену? Достаточно