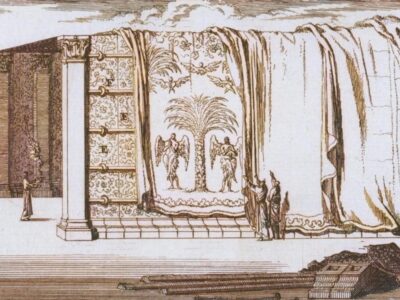Мудрость и чудо
И говорил Моше главам колен сынов Израиля так: «Вот что повелел Б‑г: если человек даст обет Б‑гу или поклянется клятвой, приняв запрет на себя, то не должен он нарушать слова своего, все, как вышло из уст его, должен он сделать».
Законы Торы — нечто большее, чем просто список вещей, которые должно или не должно делать. Являясь «чертежом», по которому Б‑г создал мир, они определяют ту реальность, в которой мы живем.
Так, законы Субботы — не просто ряд инструкций, касающихся того, что делать и чего не делать в седьмой день недели; они определяют сам священный характер этого дня — времени, суть и субстанция которого отмечены особым Б‑жественным присутствием. Когда Тора повелевает нам надеть тфилин, это не только повеление предпринять определенное действие — это еще и установление сакрального статуса некоего физического объекта, который был сделан и используется в соответствии с Б‑жественной волей (в данном случае — кожаных футляров, ремешков и пергаментных свитков, соединенных вместе). Такого рода объект отличается от обычных вещей тем, что Б‑жественная реальность явлена в нем значительно полнее и ярче.
Чудесная способность
Однако не только Тора обладает подобной властью. Нам также дана способность словами и действиями изменять саму природу окружающего мира. Законы недорим (клятв) наделяют этой властью обычного смертного человека. Эти законы, заповеданные Б‑гом Моше, устанавливают, что слова, сказанные человеком, не только обязывают его к определенным действиям (как то бывает, когда человек заключает договор) или же запрещают ему совершать некие действия (когда человек дает обет, например, не пить вина), — но слова также имеют силу наполнить названный или неназванный объект святостью. Об этом в Талмуде (Ксубойс, 59б) сказано: «Тому, что связано клятвой, присуща святость».
Так, Тора (Ваикро, 27:2, Бемидбар, 6:2) использует термин «пеле», чудо, по отношению к силе клятвы обета. То, что заповеди Торы обладают властью определять сам характер реальности, вполне естественно: ведь Тора есть откровение Создателя и Творца реальности, выражение Его воли. Но то, что человек, произнеся всего лишь несколько слов, задает степень близости Б‑га к некой части Его творения, — поистине удивительно и чудесно!
Но еще чудеснее, что сила обета или клятвы превышает силу мицвы! Так, по законам Торы, акт мицвы имеет все значение, лишь когда соответствующее действие исполнено тем, кто достиг зрелости (12 лет для девочки и 13 лет для мальчика). Поэтому если двенадцатилетний мальчик наденет тфилин, они останутся просто двумя изделиями из шкуры животных. С другой стороны, закон настаивает, что обет, принятый ребенком, когда он только приближается к зрелости (то есть одиннадцатилетней девочкой и двенадцатилетним мальчиком), освящает объект, на котором принята клятва (толкователи Алохи несколько расходятся в том, что именно считать приближением к зрелости [муфло а‑сомух ло‑иш — другое употребление термина «пеле» в приложении к обету]. Однако все они согласны в том, что период приближения зрелости — это период, когда человек, еще не достигший зрелости, тем не менее, давая обет, обладает способностью освящать мир вокруг клятвой обета (см. Талмуд, Нида, 45б; Раши, там же; Рамбам, Законы клятв, 11:1).
Ребенок, не достигший зрелости, еще не обладает в должной мере разумной сознательностью (даас), которая требуется по законам Торы, чтобы сообщить важность и значительность чьим‑то действиям. Это положение Закона пребывает в согласии с упомянутым нами выше определением Торы как «мудрости Б‑га»: в мире мудрости «неразумное» деяние деянием не является. Но в мире чуда, которому принадлежат представления об обетах, «детскость» сознания — не препятствие. Напротив, ребенок обладает качеством «чуда» в гораздо большей степени, чем «зрелые» люди.
Первый из первых
«Две сущности, — сказано в Мидраше (Тона двей Элиёу Раба, 14), — предшествовали сотворению мира Б‑гом: Тора и Израиль. Неведомо, что из них чему предшествовало. Но когда Тора говорит: “Скажи сынам Израиля”, “Заповедано сынам Израиля”, — я знаю, что Израиль предшествовал всему».
Иными словами, если Б‑г сотворил мир, чтобы народ Израиля мог исполнить Б‑жественный план, живя так, как это определено в Торе (Раши, Брейшис, 1:1), следовательно, представления об «Израиле» и «Торе» в сознании Б‑га предшествовали представлению о мире. Однако какая идея больше укоренена в Б‑жественном сознании: идея Торы или идея Израиля? Израиль ли существует для того, чтобы могла исполниться Тора, или же Тора существует, дабы служить евреям в исполнении их миссии и выражать их связь с Б‑гом? Из того, что Тора сама свидетельствует: она обращена к Израилю, Мидраш делает вывод — представление об Израиле предшествует представлению о Торе.
И закон о клятвах есть выражение того, что Израиль предшествует Торе. Тора — мудрость Б‑га, но евреи — чудо Б‑га, а это означает, что почиет на них святость, не укладывающаяся в границы разума.

Правда хорошо, а мир еще лучше

Конец традиции