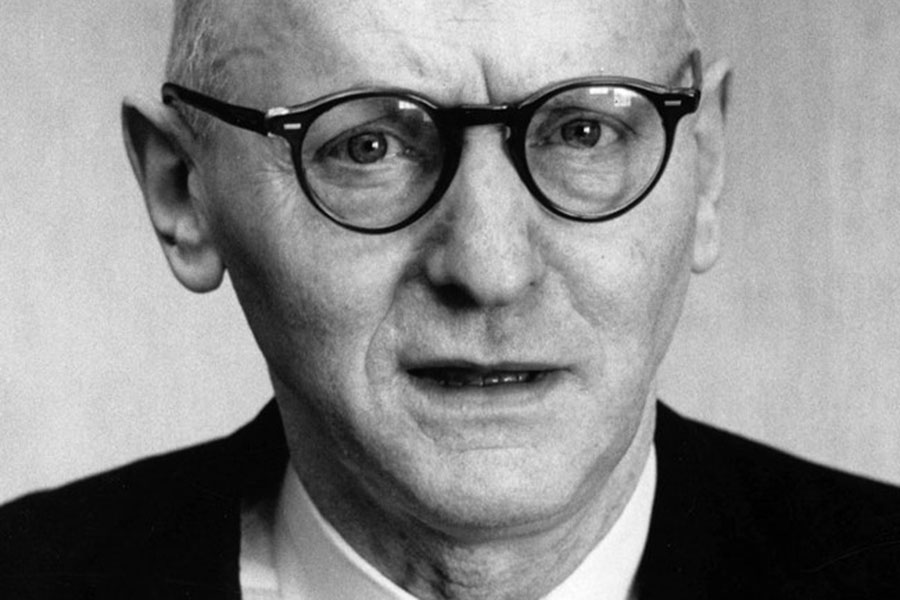1
Мархлевский раввин реб Касриел‑Дон Кинскер ходил взад и вперед по своему кабинету. Время от времени он останавливался, захватывал рукой свою белую бороду, затем отпускал ее и растопыривал перед собой все пять пальцев, что означало — у раввина возникла проблема. При этом реб Касриел‑Дон разговаривал сам с собой: «И как он решился на подобное? Переписать все слово в слово!»
Раввин имел в виду Шабсая‑Гецла, своего ученика, который часто пользовался рукописями учителя. Он даже поручал ему переписать несколько своих комментариев.
Последние сорок лет реб Касриел‑Дон писал толкования и комментарии к талмудическим текстам, но никак не решался опубликовать собственные сочинения. Он помнил предостерегающий стих из Коэлес. «А вот чего, сын мой, берегись больше всего — составлять много книг, конца не будет…»
Многие авторы отправлялись в Мархлев, чтобы продать право на публикацию своих трудов или раздобыть деньги на их издание. Некоторые просили реб Касриела‑Дона написать аскомэ — одобрительное предисловие к их сочинениям. Это были, как правило, авторы, совершенно упускавшие из виду в своих «респонсах» текст самого Талмуда. Накладывая один софизм на другой, они находили в словах древних авторов никогда не подразумевавшиеся теми значения.
Раввин колебался, прежде чем отказать такого рода просителям, боялся, что его нежелание написать предисловие может быть воспринято как оскорбление. С другой стороны, хвалить сочинение, которое он не одобрял?.. Кроме того, требовалось много времени и хорошее зрение, чтобы читать предлагаемые для оценки рукописи. Иной почерк было трудно разобрать, особенно в запоздалых соображениях, небрежно приписанных на полях. Когда же реб Касриела‑Дона спрашивали, почему бы ему не издать какую‑нибудь из своих книг, он отвечал: «Слава Б‑гу, хватает авторов и без меня. Пусть евреи следуют тому, что уже написано».

На ум раввину приходил один из кратких комментариев его деда к Танаху «В Теилим написано, что с приходом Мошиаха «возликуют все деревья в долинах». Вопрос в том, чему будут рады деревья? Им какое до этого дело? Ответ: к приходу Мошиаха авторы напишут так много книг, что они обеспечат достаточно топлива для печей, не надо будет жечь древесину, и деревья возрадуются своему спасению».
Все это хорошо, но то, что сделал Шабсай‑Гецл, просто отвратительно, и раввину уже несколько недель было не по себе. Ученик переписал целые главы из рукописей учителя и напечатал их под своим именем. Это было открытое, наглое воровство. Раввин никак не мог поверить, что Шабсай‑Гецл способен на такое, и все еще пытался придумать ему оправдание.
Реб Касриел‑Дон еще и еще сравнивал свою рукопись с книгой Шабсая‑Гецла и все больше изумлялся. Он ясно сознавал, что этот молодой человек не боится разоблачения, поскольку уверен, что раввин не опустится до того, чтобы позорить ближнего. Придавало ему уверенность и то, что он был зятем местного богача реб Тевье, старосты общины, у которого много родственников в Мархлеве. Разоблачение привело бы к скандалу и Хилул Гашем — осквернению имени Всевышнего.
Но о чем думал Шабсай‑Гецл, когда переписывал страницу за страницей из рукописей учителя? Может быть, ученик считал, что у него есть какое‑то особое, небесное разрешение? Или он, не дай Б‑г, эпикойрес — атеист, который не верит ни в Творца, ни в Его Суд?
Чем больше реб Касриел‑Дон думал об этом, тем большее смятение его охватывало. Он вновь и вновь забирал в руку свою бороду. У него не было привычки разговаривать с самим собой вслух, но сейчас слова сами срывались с губ. Он морщил высокий лоб, хмурил брови, лицо его выражало страдание, как при физической боли. Он останавливался перед книжным шкафом, словно искал ответ среди корешков древних книг.
Известно, что человек не согрешит, пока безумие не коснется его души. С другой стороны, это верно только для грехов, совершенных под влиянием момента или в приступе гнева, даже когда человек, скажем, крадет или, не дай Б‑г, совершает прелюбодеяние. Но день за днем, неделю за неделей присваивать чужой труд — это ведь чистое распутство. При этом Шабсай‑Гецл еще осмеливается смотреть реб Касриелу‑Дону в глаза? Все это оставалось для раввина загадкой.
Реб Касриел‑Дон пророчествовал себе и всему миру: «Конец изгнания близок!» Разве данный случай не похож на описанное в трактате «Сота», где повествуется о знамениях, предвосхищающих приход Мошиаха: «В следах Мошиаха возрастет бесстыдство, взлетят цены, лоза принесет плод, но вино будет дорогим. Идолопоклонство станет ненаказуемым… Изучающие книги затмятся умом, и боящиеся греха презираемы станут, не будет правды, молодые будут насмехаться над старыми, и старик вставать будет перед юношей…»?
— Неужели все . зашло так далеко? — спрашивал себя раввин.
Раввин знал, что он не должен тратить так много времени на эти рассуждения. Ему следует молиться, изучать Тору и служить Б‑гу. Все размышления о Шабсае‑Гецле вызывают только раздражение. Из‑за них он лишился сна и теперь с трудом способен сосредоточиться на своих предрассветных занятиях. Он даже вымещал свою горечь на жене.
Реб Касриел‑Дон твердо решил, что все это надо сохранить в тайне. Разумеется, теперь ему придется оставить всякую мысль об издании собственных трудов, ибо злые языки начнут судачить и все кончится слухами и обвинениями.
«Кто знает, — думал раввин, может быть, таким образом небо хочет воспрепятствовать публикации моих сочинений. Но как это увязать со свободной волей, дарованной всем людям?»
Дверь открылась, вошел Шабсай‑Гецл.
Казалось, в его приходе не было ничего необычного. Он много лет приходил к раввину и все еще считался его учеником. Действительно, сам реб Касриел‑Дон еще год назад дал ему смиху — раввинскую аттестацию. Но теперь появление Шабсая‑Гецла вызвало у раввина раздражение.
«Я не скажу ни единого гневного слова и, упаси Б‑г, ни на что не намекну», — решил реб Касриел‑Дон и даже заставил себя произнести:
— Добро пожаловать, Шабсай‑Гецл.
Ученик, невысокого роста, смуглый, с черными, как смоль, глазами, с черными бровями и маленькой черной бородкой, был одет в лисью шубу с бахромой из лисьих хвостов и в соболиную шапку набекрень. Он мягко ступал в своих отороченных мехом сапогах. Приложил два пальца к мезузе на двери, поцеловал их. Осторожно снял шубу, шерстяной шарф и остался в сюртуке.
Раввин указал Шабсаю‑Гецлу на стул возле стола, а сам сел в кресло. Реб Касриел‑Дон был выше Шабсая‑Гецла. Из‑под его белых взъерошенных бровей внимательно глядели серые глаза. На нем были атласный сюртук, бриджи, полуботинки и белые гольфы до колен. Раввину едва исполнилось шестьдесят, но выглядел он на все восемьдесят. Лишь походка его оставалась твердой и взгляд пронзительным. Все движения Шабсая‑Гецла были обдуманны, раввин же испытывал беспокойство. Он открыл какую‑то книгу и тут же закрыл ее. Отодвинул перо и чернила, затем вновь потянулся за ними.
— Ну, Шабсай‑Гецл, что нового? — спросил он гостя.
— Я получил несколько писем.
— Так!
— Не‑хотите ли взглянуть на них?
— Что ж, дай посмотреть.
Реб Касриел‑Дон заранее знал, что было в письмах. Шабсай‑Гецл разослал свою книгу разным раввинам, и они прислали ему восторженные отзывы. К нему уже обращались как к «великому светиле», «живой энциклопедии», «корчевателю гор». Раввины красноречиво выражали то наслаждение, которое им доставило чтение его комментариев, называли их «глубокими, как море», «сладкими, как мед», «драгоценными, как жемчуг и бриллианты».
Читая витиеватые отзывы, реб Касриел‑Дон молил Б‑га уберечь его от злых мыслей.
— Что ж, отлично. «Доброе имя, как душистое масло», — произнес он.
Внезапно раввин понял: его искушали. Небо испытывало его, чтобы проверить, насколько он вынослив. Одно неверное решение, и он попадет в сети, раскинутые сатаной. Опустится до печали, ярости, ненависти и неизвестно каких еще прегрешений. Ему надлежало сохранять свой разум в чистоте. Нет сомнений в том, что Шабсай‑Гецл совершил грех, но он, реб Касриел‑Дон, не Г‑сподь Всемогущий. Не его дело судить ближнего. Кто знает, что происходит в чужом сердце. Кто в состоянии измерить те силы, что влекут плоть и кровь к пустоте, алчности, безрассудству? Раввин давно знал, что страсти лишают человека рассудка.
Реб Касриел‑Дон вынул платок и вытер лоб.
— Какова цель твоего прихода?
— Я хотел бы взглянуть на респонсы, которые вы написали для Сохачевского Ребе.
Раввин хотел спросить, не готовит ли Шабсай‑Гецл новую книгу. Но воздержался и сказал:
— Они в ящике комода. Погоди, я достану.
Он прошел в соседнюю комнату, где хранились его рукописи, и, вернувшись, вручил Шабсаю‑Гецлу копии респонсов.
2
Шабсай‑Гецл провел у раввина несколько часов. Как только он ушел, в комнате появилась ребецн. Муж сразу заметил, что жена разгневана. Она ворвалась в комнату, шурша платьем. Ленты ее капора тряслись. Узкое, изрезанное глубокими морщинами лицо женщины было бледнее обычного. Еще не дойдя до стола, за которым сидел раввин, она стала кричать:
— Что ему надо, этому червяку? Почему он торчит здесь целыми днями? Он тебе не друг! Он твой враг, злейший враг!..
Реб Касриел‑Дон отодвинул от себя книгу.
— Почему ты кричишь? Не могу же я указывать человеку на дверь.
— Он приходит сюда шпионить, этот лицемер! Он хочет занять твое место! Да не доживет он до этого дня! Он подстрекает всех против тебя. Он заодно с твоими врагами!..
Реб Касриел‑Дон стукнул кулаком по столу:
— Откуда тебе это известно?
Острый подбородок старухи, на котором росло несколько белых волосков, начал трястись. Воспаленные глаза в набрякших веках гневно сверкали.
— Все знают, кроме простофиль вроде тебя! Ты видишь только свой Талмуд, ты слеп, рук от ног уже не можешь отличить. Шабсай решил стать здешним раввином. Он выпустил какую‑то книгу и всем ее разослал. Ты всю жизнь мараешь бумагу без толку. А он, хоть и молод, уже известен. Кончится тем, что тебя вышвырнут, а его назначат на твое место.
— Пусть так! Я должен продолжать свои занятия.
— Я не дам тебе заниматься! Что пользы от твоей учености? Тебе платят восемнадцать гульденов в неделю. Другие раввины живут в довольстве, а мы едва сводим концы с концами. Мне приходится месить тесто вот этими больными руками. Твоя дочь сама стирает, потому что у нас нет денег на прачку. Твой сюртук протерся до дыр. Если бы я не латала и штопала его каждый вечер, ты бы ходил в лохмотьях. А что будет с твоим сыном? Он должен был стать твоим помощником. С тех пор как ему это было обещано, прошло уже два года, а он так и не получил ни гроша.
— Разве я виноват, что они не держат слова?
— Настоящий отец сделал бы что‑то для своего сына, не позволил бы столько тянуть с этим делом. Ты ведь знаешь, что за болтуны в нашей общине, что на них нельзя положиться. Вот что я тебе скажу, — тон ребецн изменился. — Они собираются назначить твоим помощником Шабсая‑Гецла. И когда твой час придет, да случится это через сто двадцать лет, он займет твое место. А что до нашего Псахьи, то он останется без куска хлеба.
Хрипло произнеся последние слова, ребецн сжала пальцы в крошечные кулачки. Она вся дрожала, дрожали чепец, серьги, впалый рот, в котором не сохранилось ни одного зуба, пустая кожа двойного подбородка.
Реб Касриел‑Дон скорбно глядел на нее. Ему было жаль сына, который за последние двадцать лет так и не сумел найти себе работы и жил за счет отца. Раввин боялся, как бы у жены не начался приступ — она страдала желчнокаменной болезнью, и при сильном ее волнении он неминуемо случался. Действительно, уже раздались стоны — вестники первых спазмов.
Реб Касриел‑Дон прекрасно понимал, что старейшинам общины Псахья был неугоден: он не умел льстить, держался отчужденно. Его назначение помощником раввина постоянно откладывалось под различными предлогами. И разве можно навязать общине того или иного человека?
Однако о предполагаемом назначении Шабсая‑Гецла его помощником реб Касриел‑Дон слышал впервые. «В тихом омуте черти водятся, — подумал он. — Шабсай‑Гецл, мой ученик, оказался моим врагом, вознамерился отнять у меня все».
Помимо его воли что‑то внутри реб Касриела‑Дона прокричало: «Да не доживет он до этого дня!» Но он тотчас же вспомнил, что непозволительно проклинать кого‑либо даже мысленно. А вслух он сказал жене:
— Не горячись. Как знать, верно ли все это. Люди могут выдумать что угодно.
— Весь город знает, что это правда. Куда ни пойдешь, только об этом и говорят. Со следующей субботы Шабсай‑Гецл будет выступать в бейс а‑медраш . Он будет получать двадцать гульденов в неделю, на два гульдена больше, чем ты, и всем станет ясно, кто здесь хозяин.
Реб Касриел‑Дон почувствовал пустоту, подступившую к сердцу. «Бот так Авешолом восстал против Давцда, — пронеслось в его голове. — Да разделит он участь Авешолома». Раввин больше не мог справиться со своими чувствами. Он опустил голову, глаза его закрылись. Но это длилось недолго, он тут же поднялся и произнес:
— Да свершится воля небес!
— Пока ты сидишь сложа руки, люди заняты делом. И небеса о тебе не очень‑то пекутся, — заметила жена.
— Большего я не заслужил.
— Старый дурак!
Никогда реб Касриел‑Дон не слышал от жены таких слов. Конечно, она будет сожалеть о сказанном. Вскоре он услышал сдерживаемые ею рыдания. Она покачивалась, казалось, вот‑вот упадет. Реб Касриел‑Дон вскочил, схватил ее за руки, довел, вернее, доволок ее до скамьи, в растерянности позвал на помощь.
В комнату вбежала дочь, Телца‑Миндл. Муж ее стал хасидом и ушел жить «ко двору» цадика из Белза, откуда прислал жене гет . Все в Мархлеве предполагали, что Шабсай‑Гецл, сирота, который учился и столовался у реб Касриела‑Дона, женится на Телце‑Миндл, хотя она и была на несколько лет старше его. Раввин сам одобрил бы этот брак.
Но Шабсай‑Гецл обручился с дочерью реб Тевье, руководившего Мархлевской общиной, и реб Касриел‑Дон, ни в чем не упрекнув своего ученика, сочетал их браком. Когда ребецн бранила Шабсая‑Гецла, называя его лицемером и волком в овечьей шкуре, раввин лишь напомнил ей, что брачные союзы заключаются на небесах…
Однако историю с изданием книги, а теперь еще и попытку занять место помощника раввина, обещанное Псахье* он не мог простить Шабсаю‑Гецлу так легко.
Реб Касриел‑Дон мельком взглянул на дочь и велел ей:
— Уложи мать в постель. Приготовь грелку и позови лекаря.
—Не тащи меня! Я еще живая! — кричала жена. — Горе мне! Горе со всеми моими бедами.
Реб Касриел‑Дон снова посмотрел на дочь. Кажется, совсем недавно она была маленькой девочкой, и он играл с ней, сажал к себе на колени, покачивал вверх‑вниз. Теперь она стояла перед ним, взрослая, с грязным платком на голове, в несвежем фартуке и стоптанных шлепанцах. Она была низкого роста, в мать, склонна к полноте, выглядела старше своих лет. У нее были светлые брови и веснушки, ее бледно‑голубые глаза выражали молчаливое уныние, печаль покинутой женщины.
Реб Касриел‑Дон имел мало радости от своих детей. Одни умерли в раннем детстве. Он потерял взрослого сына и взрослую дочь. Псахья был одаренным мальчиком, но после женитьбы стал замкнутым, слова невозможно от него добиться. Поглощенный каббалой, он спал днем и бодрствовал ночью. Что же удивительного в том, что община отвергла его? В наши дни раввин должен быть деловым человеком, должен уметь вести счета и даже немного говорить по‑русски. До реб Касриела‑Дона доходили слухи о том, что в больших городах раввины сами имеют дело с властями, ездят к губернатору, пользуются гостеприимством богачей. Один раввин даже опубликовал обращение к евреям, в котором призывал их переселяться в колонии Эрец‑Исроэл, где они смогут постоянно говорить на святом языке, не только в субботу. Созывались конференции, люди читали газеты. Мархлев же был захолустным, отрезанным от мира городком.

Но почему Шабсай‑Гецл, у которого такой богатый тесть, должен отнимать у бедняка его заработок?
Дочь увела мать из комнаты, и реб Касриел‑Дон снова принялся ходить по ней взад и вперед. «Зло еще не одержало верха, — бормотал он. — Есть Творец, есть Промысел Б‑жий, Тора все еще Тора…»
Мысленно реб Касриел‑Дон вновь вернулся к книге Шабсая‑Гецла. В связи с обнаруженным плагиатом единственное, что мог сделать раввин, как ему представлялось, — это раз и навсегда скрыть свои труды от посторонних глаз. Иначе их найдут после его смерти, и Шабсай‑Гецл будет разоблачен, опозорен или, хуже того, реб Касриела‑Дона самого заподозрят в плагиате. Но где спрятать рукописи так, чтоб их никто не обнаружил?! Остается только сжечь их.
Реб Касриел‑Дон повернулся к печи. В конце концов, какая разница, кто автор? Главное, комментарии опубликованы, и их будут изучать. Небу известна правда.
3
Всю ночь раввин не смыкал глаз. Он прочел «Шма, Исроэл», произнес благословение «Дающий узам сна пасть на глаза мои», после которого нельзя говорить. Но сон не приходил.
Реб Касриел‑Дон знал, что необходимо делать. В предписании Торы говорится: «Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Он должен пригласить к себе Шабсая‑Гецла и все ему высказать. Однако реб Касриел‑Дон отчетливо представлял себе, как его бывший ученик будет оправдываться, прикидываться невинным, утверждать, пожимая плечами, что община навязывает ему должность. Рукописей же у раввина больше не было: он их сжег.
Реб Касриел‑Дон ворочался с боку на бок. Его бросало то в жар, то в холод. Боль в затылке была невыносимой. Спину ломило, словно его избили.
Им овладели безумные мысли, которые угрожали его шансам в будущей жизни. Кто знает, возможно, еретики правы: возможно, нет ни Суда, ни Справедливости; возможно, Небеса тоже на стороне сильных. Разве не сказано в Талмуде: «Победа приходит к тому, кто сильней…» Может быть, евреи потому и терпят изгнание, что они самый слабый из народов? Может быть, убийство животных допускается лишь потому, что человеку стало известно, как пользоваться ножом? Возможно даже, что сильный восседает в раю, а слабый терзается в аду…
«Я качусь в пропасть, — встревожился реб Касриел‑Дон. Он пощупал лоб рукой. — Б‑же, помоги мне.. Я погружаюсь в адские пучины…» Раввин резко поднялся. «Почему я остаюсь здесь и даю злым духам одержать верх надо мной? Есть же лекарство — Тора!» Он быстро оделся, зажег лампу. На стене кабинета и потолочных балках качались тени. Зубы его стучали от холода, хотя печь была протоплена. Обычно, рано поднимаясь, он ставил самовар и заваривал чай, сейчас у него не было для этого сил. Он открыл книгу, но буквы прыгали перед глазами, вызывая головокружение, метались из стороны в сторону, перескакивали одна через другую, меняли цвет.
«Не слепну ли я, упаси Б‑г? — подумал реб Касриел‑Дон. — Или пришел мой конец? Ну что же, тем лучше, кажется, я больше не в состоянии держать себя в руках…»
Раввин медленно опустил голову на книгу и задремал, затем заснул. Вероятно, его сон длился несколько часов, когда он проснулся, серый дневной свет пробивался сквозь ставни. На улице шел снег.
«Что же мне снилось? — пытался вспомнить реб Касриел‑Дон. — Крики, вопли, звон колоколов. Пожар, похороны, резня. Все сразу, одновременно…». Его знобило, он хотел вымыть руки и произнести утренние молитвы, но не мог подняться на ноги.
Медленно открылась дверь, на пороге появился Псахья. Небольшого роста, с серым лицом, широко расставленными глазами почти без бровей. Его округлая бородка, обычно рыжеватая, этим зимним утром походила на серую вату. Псахья вошел, волоча ноги в шлепанцах. Расстегнутый сюртук открывал длинные кисти талес‑котна и мятые брюки, подпоясанные тесьмой. Рубаха была широко распахнута на груди, к ермолке прилипли клочья пуха.
— Чего тебе? — спросил раввин.
Псахья ответил не сразу. Его желтые глаза моргали, губы дрожали.
— Отец!
— В чем дело?
— Шабсай‑Гецл болен… Очень болен… Он при смерти и нуждается в милосердии…
Реб Касриел‑Дон почувствовал острую боль, которая шла от горла внутрь него.
— Что с ним?
— Послали за доктором… Пока неизвестно… Жена его просит тебя помолиться за него.
— Чего стоят мои молитвы? Хорошо, иди!
— Отец, имя его матери — Фрума‑Злата …
— Хорошо, хорошо…
Псахья вышел, прихрамывая. «Что это с ним? — подумал раввин. — И выгладит он неважно».
Реб Касриел‑Дон закрыл глаза. Причина недуга ученика была ему ясна — невольное проклятье учителя. Раввину пришел на ум стих из Мишлей : «И праведника наказание нехорошо». Комментаторы толкуют этот стих так: «И праведный не должен определять наказание». Он поймал себя на мысли, что назван себя праведным, и это заставило его устыдиться. «Это я‑то праведник? Человек, обладающий злой силой, подобно Бильаму ?»
Раввин стал молиться за Шабсая‑Гецла: «Б‑г Всемогущий, пошли ему исцеление… Я не хочу быть его убийцей… Прощаю ему все и навсегда».
Реб Касриел‑Дон взял с полки Теилим и нашел псалом о милосердном: «Счастлив, кто заботится о бедном…» Наступило время утренней молитвы, но раввин продолжал спор с Ним: «У меня нет больше сил терпеть все эти горести. Если я не могу обрести покоя в старости, лучше возьми меня…»
Несколько дней Шабсай‑Гецл боролся со смертью. Порой казалось, что ему лучше, но болезнь снова подступала. Был приглашен доктор из Замостья. Больному ставили банки и пиявки. Его растирали спиртом и скипидаром. Жена с тещей молились за него на кладбище, просили заступничества у предков. В бейс а‑медраш горели свечи. Брата арон а‑койдеш были раскрыты настежь. Дети из хедера читали Теилим.
Реб Касриел‑Дон отправился навестить своего ученика. Он прошел коридор и через гостиную попал в застланную ковром спальню, окна ее были занавешены. На стуле стояли пузырьки с лекарствами. Раввин увидел апельсин, печенье, сладости. Лицо Шабсая‑Гецла было серовато‑синим. Больной невнятно что‑то бормотал, его бородка двигалась вверх и вниз, казалось он что‑то жует. Острый кадык проступал на горле. По нахмуренному лбу можно было подумать, что он решает какой‑то сложный вопрос.
Реб Касриел‑Дон содрогнулся. Вот что может произойти с человеком! Наклонившись к больному, он сказал:
— Шабсай‑Гецл, выздоравливай! Ты нужен здесь, нужен…
Больной открыл один глаз:
— Ребе!
— Да, Шабсай‑Гецл. Я молюсь за тебя день и ночь.
Шабсай‑Гецл хотел что‑то сказать, но смог издать только какой‑то булькающий звук. Скоро оба глаза его закрылись. Раввин шептал: «Исцелись! Во имя Торы…» В то же время он был уверен, и это казалось недоступным его понимании, что Шабсай‑Гецл никогда уже не встанет с постели.
Шабсай‑Гецл умер той же ночью, утром его похоронили. В бейс а‑медраш реб Касриел‑Дон произносил надгробное слово. Раввин никогда не плакал, произнося погребальные речи, но на этот раз он был вынужден прикрыть лицо платком. Тесть Шабсая‑Гецла предложил положить на гроб зятя его книгу, так и сделали. У Шабсая‑Гецла не было детей, первый кадиш над ним читал раввин.

Через несколько дней община назначила Псахью помощником раввина. Пили вино, ели леках. На Псахье был новый сюртук, новые сапоги и ермолка, на которой теперь не было пуха. Он обещал исполнять все обязанности раввина и помогать отцу руководить общиной. Старейшины желали ему удачи.
Прошло несколько недель. Реб Касриел‑Дон проводил дни в уединении, поручив все ритуальные и закоиоведческйе дела сыну. Он даже перестал ходить молиться в бейс а‑медраш. Если обычно он ел только раз в день, то теперь почти не притрагивался к пище. В субботу он больше не пел змиройс . Он больше не ставил самовар по ночам. Домашние могли слышать, как раввин шагает взад и вперед в темноте, вздыхая и разговаривая сам с собой. Лицо его пожелтело, борода поблекла.
Совершенно неожиданно раввин заявил, что отказывается от своего поста и просит общину поставить на его место Псахью. Свой уход он объяснил тем, что согрешил и должен отправиться в голус, покаянное изгнание.
Напрасно плакала жена. Реб Касриел‑Дон снял атласный сюртук и штраймл , надел длинное ворсистое пальто и матерчатый картуз. Он попрощался с семьей и жителями города. Какой‑то извозчик согласился отвезти его в Люблин.
Когда реб Касриел‑Дон садился в повозку, молодой человек, известный в городе своей дерзостью, спросил его, какой же грех он совершил. И раввин ответил:
— Заповедь «не убей» включает в себя все грехи.
(Опубликовано в №№ 34-35)

Los Angeles Review of Books: Вера в место: Исаак Башевис Зингер в Израиле

Тревожимая Б‑гом проза Исаака Башевиса Зингера