Сион как магистральное направление
Представляем вниманию читателей эссе известного американского литературного критика Лесли Фидлера (1917–2003) из книги «Ожидание конца: Американская литературная сцена от Хемингуэя до Болдуина» (1964), в котором он описывает свое видение феномена американской еврейской литературы.
Сейчас мы определенно переживаем момент, когда еврейские писатели, работающие во всех областях прозы, обнаружили, что их еврейство — весьма востребованный товар, а их пресловутое чувство изгойства — не что иное, как пропуск в средоточие нееврейской американской культуры. И действительно, именно их вполне обоснованные претензии на то, что они первыми застолбили пустыню затерянности в центре великого американского оазиса (ту самую, куда теперь несутся все, с бутылкой «кока‑колы» в одной руке и с Мартином Бубером в другой), сделали еврейских писателей типичными американцами даже в глазах чиновников, которые организуют культурный обмен по линии госдепартамента. Автобиография еврея‑горожанина: его отрочество совпало с Великой депрессией, в его голове, когда он бродил вдоль какой‑нибудь загаженной городской реки, крутились цитаты из Ленина, а потом он ушел (или ухитрился не пойти) на мировую войну, в цели которой не совсем верил, — теперь предстает как неотъемлемая часть мистической биографии нашей страны.
Даже в области поэзии поэты‑евреи впервые начинают не только проецировать самые жизнеспособные образы того, каково быть американцем, но и выбирать тональности, в которых мы славим или оплакиваем свой американский удел. Строки, начертанные на постаменте статуи Свободы, сочинены ни кем иным как Эммой Лазарус, которая назвала одну из своих книг стихов «Песни семитки»; но лишь с появлением Делмора Шварца и Карла Шапиро , то есть накануне и после Второй мировой войны, американские еврейские поэты смогли создать стихи, способные жить в библиотеках и сердцах других поэтов, а не только на памятниках и в речах политиков. И лишь в последние десять лет такой настолько еврейский по своим заветнейшим воспоминаниям (чему бы он ни присягал ныне) поэт как Аллен Гинзберг смог возглавить новое поэтическое течение.
И все же миг триумфа для еврейского писателя в США наступил именно тогда, когда он практически перестал ощущать себя евреем, когда жест отторжения — похоже, последнее связующее звено между ним и историческим прошлым, а тот факт, что широкие массы признали его изгойство символом человеческого удела, рискует низвести это изгойство до жеманной ужимки и модного стереотипа. И действительно, недавнее признание заслуг даже самых серьезных американских еврейских писателей почему‑то выглядит не столько событием в истории литературы, сколько очередной стадией в эволюции вкусов умеренно интеллектуальной аудитории, частью того мелкого переворота, который возвел Гарри Голдена в современные пророки и позволил газетам наращивать тиражи на эрзацроманах Леона Юриса . Вот несколько обстоятельств, которые, несомненно, повлияли на этот переворот: во‑первых, мы испытываем стыд за чудовищные издевательства нацистов над немецкими евреями, хотя мы в этих преступлениях не виноваты; во‑вторых, с созданием Государства Израиль даже статус евреев диаспоры стал менее двусмысленным; в‑третьих, борьба против британского владычества, которая привела к созданию Израиля, окружила евреев неким сентиментальным ореолом, приравнявшим их в восприятии американского англофоба к ирландцам и нашим общим мифическим прародителям‑революционерам.

Но основная причина — возродилась идея, что социальным группам необходимо взаимопонимание, и в вакуум, возникший, когда уменьшились накал веры и ее значимость для истовых прихожан, хлынула приливная волна толерантности, подхватила евреев и увлекла за собой. Вдобавок евреям благоприятствует освящение заботы о «маленьком человеке», которую вчерашние либералы считали добродетелью, а сегодняшние консерваторы, чтущие «новый курс» и «новый фронтир» , превратили в общее место. Снисходительный ярлык «маленькие люди» навешивался на разные социальные группы поочередно: на армян и греков, на китайцев и кубинцев, на индийцев низших каст, нелегальных иммигрантов из Мексики, угнетенных женщин, паралитиков и подростков. Но в этом смысле мытарства еврея, похоже, скоро закончатся, так как в списке третируемых и оскорбленных он уже не на первом месте. Даже журнал «Нью‑Йоркер» признал, что негр сейчас поднялся в этом списке выше еврея; и теперь скорее Болдуинам, чем Беллоу приходится биться над загадкой неудачи или успеха в Америке. Широкая разрядка в холодной войне нееврея с евреем в США установилась надолго, и, хотя ее пытаются вытеснить другие, новейшие настроения, в определенных кругах умеренно интеллектуального умеренно либерального среднего класса по‑прежнему модно симпатизировать евреям. В литературной и интеллектуальной среде, задающей тон в Америке, требуется быть (или, возможно, только слыть) юдофилом, совсем как в 1920‑х годах требовалось быть антисемитом, а чуть позднее, пожалуй, было достаточно слыть.
Но иудаизация американской культуры происходит не только в кругу литераторов и интеллектуалов, но и на намного более низком уровне. В Миссуле, штат Монтана, где не наберется и десятка еврейских семейств, излюбленное вино — «Моген Давид»; а неббиши на открытках, пепельницах, пивных кружках и письменных приборах уже много лет глядят из витрин местной сувенирной лавки. А почему бы и нет? Вся страна тащится от Жюля Файффера и Морта Сала , точно так же, как все рассказывают «циничные анекдоты», а для поздравлений с днем рождения, бракосочетанием или национальными праздниками выбирают «открытки ненависти» . Однако «циничный анекдот» и «открытка ненависти» знаменуют, что в нашу массовую культуру просочились не только явления, прежде характерные лишь для авангардной культуры (осмеяние буржуазных добродетелей, определенная толика психоанализа), но и еврейский юмор в его самом беспросветном изводе. Конечно, в этом нет ничего воистину неожиданного: в начале нынешнего столетия Поташ и Перлмуттер имели бешеный успех, почти совпавший по времени с дебютом Чарли Чаплина. Собственно, в американскую культуру еврей «входит из кулис на сцену, смеясь».
Пожалуй, можно начертить график, где указывались бы, с разбивкой по десятилетиям, времена, когда для евреев стало возможно
1. пародировать самих себя на театральных подмостках;
2. пародировать на театральных подмостках другие «смешные» народы (Чико Маркс в образе итальянца, Эл Джолсон, загримированный под чернокожего);
3. писать шлягеры и патриотическую субпоэзию, а также устремиться целыми толпами в университеты в качестве студентов;
4. создавать комиксы и популярные у массового читателя романы;
5. участвовать в судебных прениях, выносить приговоры на судейской скамье, прописывать лекарства от простуды и лечить невротиков методом психоанализа;
6. писать прозу и антиакадемическую критику;
7. преподавать в университетах и участвовать в формировании официальных вкусов в искусстве;
8. сочинять серьезные стихи, наотрез отказываться от высшего образования и писать на стенах «Долой евреев!».
Ныне все это возможно одновременно, поскольку ни одно из новых достижений не вытеснило предыдущие, а наши успехи множатся с головокружительной быстротой. Гекльберри Финн оборачивается Оги Марчем, Дэзи Миллер преображается, силами Натали Вуд, в Марджори Морнингстар , Эдди Фишера возводят в символ чистой юношеской американской любви, а Дэнни Кей продолжает играть роли голубоглазых шутников; и, наконец, мы вступаем в эру диковинных переходов в иудаизм (Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Сэмми Дэвис‑мл.) и глубоко символических бракосочетаний. Сам Эрот становится (или временно кажется) евреем, поскольку все мифические героини наших эротических грез сохнут по евреям‑интеллектуалам и учатся готовить клецки из мацы.
Еще неожиданнее, что иудаизируется и литература для занятых мужчин — политиков и менеджеров, желающих одновременно расслабиться и потрафить своим фантазиям. Долгому господству вестернов и детективов бросает вызов научная фантастика — этот преимущественно еврейский продукт. Среди авторов бестселлеров в этом популярном жанре много евреев, а в жанрах вестерна и детектива (двух разновидностях регламентированных фантазий с более долгой историей) — практически ни одного. В основных мифах научной фантастики отражены мировоззрение горожанина, чувство ответственности перед обществом, увлечение утопиями, то есть черты современного, секулярного еврея. Традиционное еврейское ожидание Мессии переосмысливается во внерелигиозном духе и превращается в идею ответственности перед будущим — в лейтмотив нынешней научной фантастики. «Еврей‑ковбой» — даже подумать смешно, «еврей‑сыщик» (хоть инспектор Скотленд‑Ярда, хоть крутой частный детектив) — почти такая же аномалия, но «еврей‑ученый» кажется чуть ли не тавтологией.
В многих научно‑фантастических произведениях, действие которых происходит накануне великой атомной войны или после нее, отразились угрызения совести, характерные для таких ученых‑интеллектуалов (типичных евреев), как Роберт Оппенгеймер; в то же время фигура Эйнштейна царит над изображаемыми в подобной литературе «новым небом» и «новой землей», заменяя прежнего еврейского Б‑га, ныне умершего. Даже мелкие детали выдают, что вселенная научной фантастики — еврейская; мудрый старый портной, нелепая, но милейшая «идише моме» и еще дюжина прочих еврейских стереотипов проносятся с бешеной скоростью сквозь пространство и время, оставаясь неизменными. Более того, авторы вставляют в текст сугубо еврейские шутки для своих: например, на коррумпированной планете на другом краю галактики полиция зовется — на языке этого лишь наполовину вымышленного мира — «ганавим» («воры»). А в комиксах про Супермена (этом аналоге научной фантастики для «низколобых») те же самые стремления и неврозы спроецированы на невероятную маску, за которой прячется Тайный Спаситель: пусть внешность у него нееврейская, придуман он евреями. Его бицепсы — бицепсы Исава, но диалоги в «Супермене» — диалоги Иакова.

Даже если вы не читаете ни книг, ни комиксов, еврейская культура поджидает вас в засаде, причем не только в сувенирной лавке или питейном заведении, но и в нашем единственном музее, где воистину кипит жизнь, в том подлинном культурном фонде широких масс, — в супермаркете. Даже в самых отдаленных поселках в супермаркете рядом с головкой сыра, ветчиной в нарезке и псевдохотдогами из муки с опилками вы найдете кошерную салями, рядом с галетами, ржаными хлебцами и лефсе — мацу, а рядом с муравьями в шоколаде, жареными кузнечиками и закуской из артишоков с анчоусами — гефилте фиш «Как у мамы». Но даже неважно, чем заполнены супермаркет и журнал «Лайф» (оба, кстати, устроены по одному принципу псевдоуниверсальности: все красиво упаковано и предлагается без особого нажима и разграничений), главное, что это большое демократическое сердце Америки. И в этом сердце еврейская культура (если понимать под ней гефилте фиш и Натали Вуд, евреев‑ученых и неббишей) поселилась, кажется, всерьез и надолго. И именно через призму этого факта культуры американские еврейские писатели должны оценивать растущий спрос на свои книги и положительные рецензии на них; но сопоставление этих фактов позабавило лучших писателей, смутило просто хороших и несказанно обрадовало худших.
Тем не менее можно утверждать, что американский еврейский писатель всегда мечтал об успехе подобного рода, хотя долгое время мог рассчитывать, что его реальное положение — изгойство, с которого он начинал, — спасет его от его собственного стремления стать в Америке своим. Американский еврейский писатель с самого начала мечтал не только впечатать яркие образы своих соплеменников в сознание всей американской нации, не только вырвать эти образы из лап нееврейских писателей‑антисемитов, подвергающих персонажей‑евреев психологической эксплуатации, но и, через создание таких образов и их освобождение из рабства, самому стать частью американского мира, таким же гражданином, как и другие граждане, еще одним писателем в списке, который начинается с Бенджамина Франклина и Вашингтона Ирвинга. Само понятие «американская еврейская литература» содержит мечту об ассимиляции, а предполагаемый этим понятием процесс обречен на движение к победе (в плане личного успеха), которая одновременно станет поражением (в плане значимого выживания еврейского народа). Если нынешние американские еврейские писатели увлеченно пишут, похоже, не высокую трагедию о стойкости евреев перед гонениями, а комедию о том, как еврейство растворяется в атмосфере житейского благополучия, это потому, что они правдиво описывают мир, куда, если говорить честно, они сами и их предшественники все‑таки мечтали пробиться.
Однако поначалу желание американской еврейской общины стать благодаря своим художникам частью не только демографического состава, но и фантазий Америки выглядело исключительно как благородное стремление, обреченное на успех. Первое время еврейский писатель и персонаж‑еврей (неважно, персонаж еврейского или нееврейского автора) играли лишь самую малую и периферийную роль в литературе США и в глубинном сознании американского народа — в сознании, которое эта литература одновременно отражает и порождает. Одна из причин — тот элементарный социологический факт, что на заре существования нашей страны евреи были малочисленны и незначительны, а потому миф о еврее, унаследованный нами вместе с английским языком и массивом текстов английской литературы, вряд ли находил отклик в сознании американского народа. Что могли значить фигуры Вечного жида, Шейлока и Джессики, Исаака из Йорка и дочери его Ребекки, Райи и Фейгина для людей, чьи собственные страхи, комплекс вины и разбитые надежды проецировались на совершенно другие этносы? Подобные фигуры ассоциировались с именами Шекспира, сэра Вальтера Скотта и Диккенса (писателей, иногда внушавших благоговение и даже любовь, но в школе, где их книги входили в обязательную программу, снискавших, увы, только неприязнь); итак, эти фигуры были той стороной реальности, которая известна нам лишь понаслышке, «фактами из учебника», которые мы впервые узнаем по книгам, а не истинами, которые мы в книгах опознаем, уже повстречав их в собственных мечтах и кошмарах.

В американской душе (совсем как Шейлок и Вечный жид — в европейской) живут те, кого белые американцы‑англосаксы притесняли в процессе своего перерождения в американцев (совсем как европейцы притесняли евреев в процессе своего превращения в христиан): это индеец и негр, которые поселились в воображении американцев, едва оно сформировалось. В Новом Свете иммигрант‑англосакс мог сохранять антисемитизм, как и неприязнь к аристократии, лишь умозрительно; в реальности он был вовлечен в совсем другие конфликты, а его попытки спроецировать собственные психологические проблемы на недругов своих предков не укоренились в беллетристике. То же самое можно отнести к последующим волнам иммигрантов, прибывшим из других областей Европы. Немцы, поляки и чехи, возможно, привезли из родных краев некие традиционные антисемитские фантазии; но едва их ассимиляция в Америке перешла с социального на психологический уровень (что в стране «плавильного котла» происходит довольно быстро), они обнаружили, что их былые кошмары вытесняются новыми.
Джеймс Фенимор Купер, величайший творец американского мифа, в «Последнем из могикан» пытался отождествить злокозненного индейца с Шейлоком, а в одном из своих последних романов изобразил индейцев в образе этаких «евреев Нового Света», воспроизводящих в диком краю сцену распятия; но эта грандиозная попытка устроить, чтобы ненависть и чувство вины, свойственные европейскому берегу Атлантики, подпитывали те же чувства на американском берегу, и наоборот, не удалась. В обществе, которое не было связано с евреем древним страшным чувством вины — чувством, не только известным по учебникам или даже священным книгам, но и испытанным в жизни, еврей не мог служить фигурой архетипического «другого», этаким «мальчиком для психологического битья». Отказ в приеме на работу или в члены загородного клуба — не то же самое, что погромы и массовые убийства, и даже тот антисемитизм, который подспудно содержится в христианстве, оставался в Америке преимущественно теоретическим; бывало, что школьник прибегал домой, рыдая, недоумевая, и долго вспоминал выкрики одноклассников: «Вы нашего Христа убили!»; но в США такие инциденты не повлекли за собой смерть практически ни одного человека! И возможно, именно поэтому в классической литературе, которую интересовали смертоносные конфликты, персонажи‑евреи не играют серьезной роли.
Нелишне вспомнить, что поэт, который со второй половины прошлого века почти до начала нашего столетия писал и переделывал свою поэму, занимающую 400 страниц и претендующую на верх энциклопедизма в американской поэзии, так и не включил в свой мифический мир ни одного персонажа‑еврея, ни одной еврейской сцены. В «Листьях травы» нет евреев, а единственное появление прилагательного semitic, зафиксированное в словарях к этому произведению, оказывается опиской. Уитмен, желая написать, что идеальный американский поэт «погружает свой семенной мускул» (plunging his seminal muscle) в «добродетели и недостатки» своей страны, вначале оплошно написал «семитский мускул» (semitic muscle), но внес исправления, когда какой‑то читатель, посмеявшись, указал ему на ляп. Америка Уитмена состоит из белых, краснокожих и черных, порой мелькают даже желтолицые азиаты; но евреи остались за пределами его палитры и никоим образом не стали частью мифа, унаследованного нами от этого поэта. Не попали евреи и в команду, которая, за их исключением, укомплектована представителями всей планеты, — в ватагу отверженных уроженцев штата Мэн и Ближнего Востока, африканцев и ирландцев, испанцев, итальянцев и полинезийцев, которая под предводительством безумного шкипера‑янки ходила на корабле, названном в честь вымершего индейского племени , в «Моби Дике» Мелвилла. Да и Гек Финн, пока великая река несла его к своим низовьям, не повстречал в средоточии цивилизованной Америки ни одного еврея — ни на берегу, ни на воде.
Следует уточнить: в других произведениях Мелвилла, а также у Готорна, Генри Джеймса и даже Лонгфелло порой попадаются персонажи‑евреи; но в основном это либо позаимствованные из других литератур жупелы как мужского, так и женского пола, либо выдумки сентиментальных натур, которые, стараясь сохранить свои фантазии в неприкосновенности, предпочитали иметь дело только с чисто воображаемыми евреями. Например, в эпической поэме Мелвилла «Кларель» предпринята дерзкая попытка адаптировать для применения в Америке архетипический шаблонный сюжет, более всего пленявший американское воображение, если оно все же пробовало обратиться к еврейской теме: миф о Шейлоке и Джессике, о зловещем еврее, у которого отняли его красавицу‑дочь. Но американское воображение не разрешает герою‑нееврею заполучить еврейскую девушку в результате счастливой шекспировской развязки; по нашу сторону океана трагически рушится европейский миф об ассимиляции, эта мечта спасти желанные элементы иудейской традиции (материнскую ласку и экзотический шарм, воплощенные в образе Марии), отделив их от нежеланных (патриархальной строгости и суровой приверженности букве закона, воплощенных в образе первосвященника и отца‑Авраама с ножом).
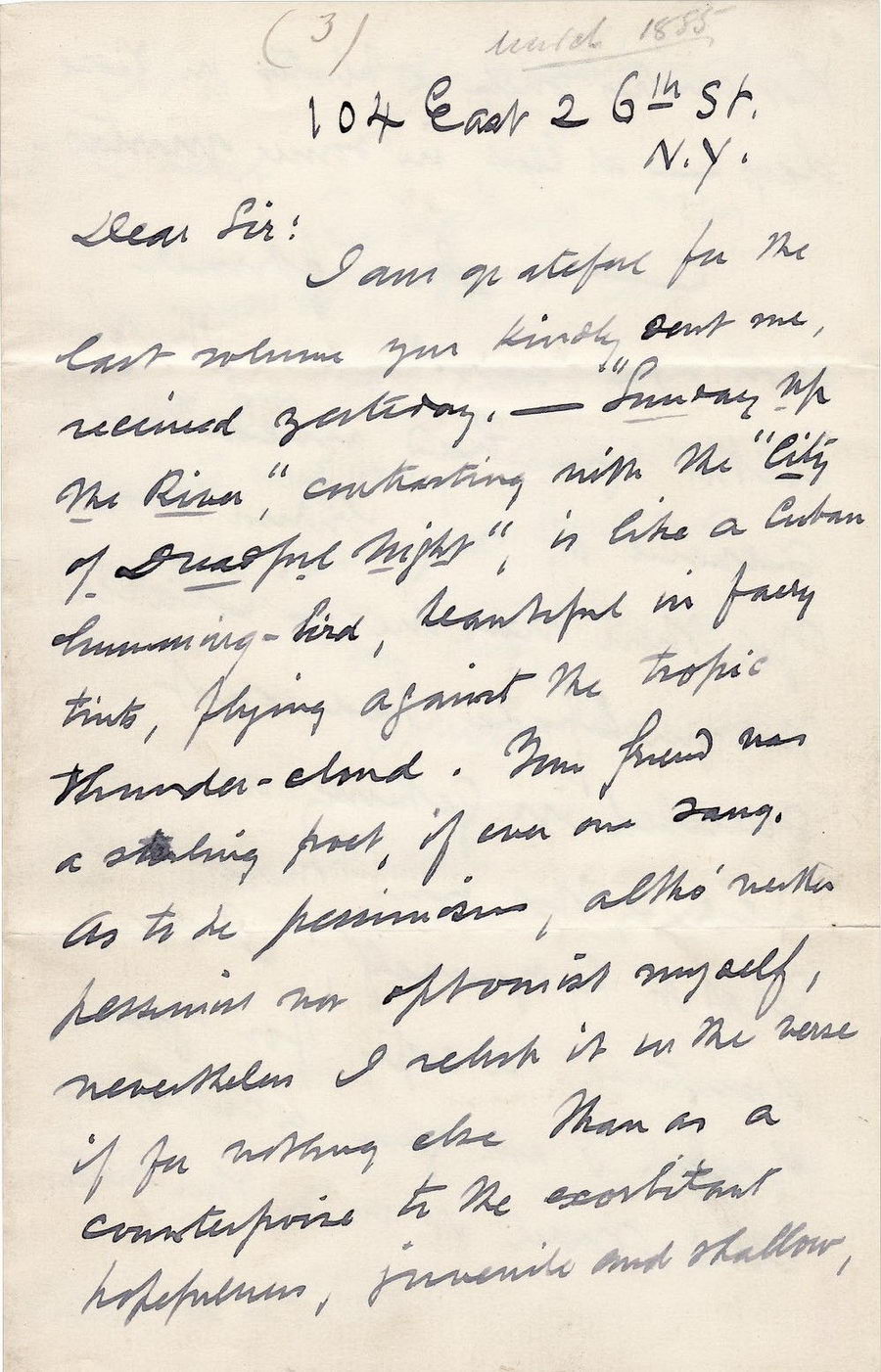
Беда в том, что в еврейской девушке видят не Марию, а Лилит и относят ее к категории «смуглых леди» (в остальном состоящей из представительниц романских народов), противопоставленной белокурой англосаксонской деве; и если «смуглая леди» олицетворяет для пуританина все самые вожделенные и пугающие стороны страсти, то англичанка — любовь бесполую, любовь без страсти. На заре нашей литературы Чарльз Брокден Браун мог дозволить своему герою женитьбу на еврейке, но ни Мелвилл, ни Готорн не могли настолько забыть про своих бледных англосаксонских невест, чтобы последовать примеру Брауна. Даже в нашу якобы постпуританскую эпоху герой пьесы «Двое на качелях» в конце концов бросает свою Гитель Моску, еврейское олицетворение импульсивности и сексуальной щедрости, чтобы вернуться, как порядочный американец, к покинутой жене‑нееврейке.
Но, помимо кошмара о соблазнительной дочери еврея — от нее не отходит «кастрирующий отец» — в американском воображении существует мечта о «маленьком еврее», который сносит и прощает издевательства, ком‑то вроде семитского аналога дяди Тома. Увы, у наших серьезных писателей этот образ не встречается нигде; а если где‑то и попадается, то, вероятно, импортируется из Англии как расширение и упрощение назидательной юдофилии в духе Джордж Элиот. Так или иначе, в 1868 году в детском журнале «Наше юношество» было опубликовано стихотворение, которое начинается так:
Мы вместе ходили в школу,
маленький еврей и я,
он был черноглазый, с огромнейшим носом,
с маленькими кулачками, которые не годились для драки,
но, что бы ни случалось, он никогда не плакал .
На Йом Кипур герой машет яблоком перед этим «огромнейшим носом», высмеивая мальчика за то, что он постится, а потом раскаивается в содеянном. И вот как заканчивается стихотворение:
На следующий день, после уроков,
Я перестал вести себя глупо,
Попросил прощения, прекратил все раздоры,
И — что ж, мы всю жизнь остаемся друзьями —
Тот маленький еврей и я.
Кошмар, пересказанный с чужих слов, а спасение — в такой же заемной мечте.

Во второй половине XIX века еврейский писатель сам оперировал этими стереотипами, выстраданными вполсилы, и его реакция выглядит столь же надуманной, столь же далекой от средоточия внутренней жизни американца. Вплоть до конца XIX века (а век этот в некотором роде завершился лишь с окончанием Первой мировой войны) американская еврейская литература (то есть поэзия и проза, написанные на основании собственного опыта теми, кто был готов называть себя евреями либо происходил по прямой линии от тех, кто на это был готов) остается не только чисто умозрительной, но и узкоместной. В этом плане она похожа на всю сублитературу, обычно именуемую региональной, — на произведения, призванные выразить ценности и интересы некой группы людей, которая считает, что невнимание «большого сообщества» ставит ее в невыгодное или даже небезопасное положение. С одной стороны, это литература для самовосхваления и самоутешения на потребу узкой группе «своих», которая знает, что обидчики ее третируют да вдобавок почти не замечают; с другой стороны, эта литература старается сделаться «литературой для пиара», призванной рекламировать эту узкую группу в глазах чужаков, а чужаки, как считается, одобрительно воспримут только «положительные», то есть безобидные или недостоверные образы группы изгоев.
Однако на деле региональная литература перестает быть сублитературой не тогда, когда выставляет своих персонажей достойными людьми, а тогда, когда показывает их как типичных (при всем их своеобразии) представителей большого сообщества: страны, альянса стран, всего человечества. Но это происходит, лишь когда региональные писатели превращаются из апологетов в критиков, отбрасывают подтасовки и сантименты, предпочитают описывать не специфические (реальные или воображаемые) добродетели своей группы, а те слабости, которые роднят ее со всем человечеством. Соплеменникам, их собственным друзьям и родителям часто кажется, что такие писатели — предатели, и не только потому, что правдоискательство вынуждает их резко отзываться о соплеменниках, друзьях и родителях, но и потому, что установка на общечеловеческие темы и стремление заинтересовать всех читателей побуждают их ломать изнутри стены «культурного гетто», которые на деле — залог не только изгойства, но и безопасности общины, взрастившей писателей.
Особенно тяжело тем меньшинствам, чей образ даже не эксплуатирует коллективная психика: они никогда не символизируют неуверенность и чувство вины, затаенные в подсознании большого сообщества, а лишь игнорируются его коллективной психикой, то есть как бы отсутствуют в его поле зрения. Собственно, порой они рады, что общество их не замечает, так как мнят это собственной заслугой, результатом их отказа подлаживаться под чужие обычаи.
Итак, эти люди, которых мифология «в упор не видит», склонны путать свое исконное, упорно хранимое своеобразие с психологическими стенами, скрывающими их от взора посторонних (хоть и сознают, что однажды эти стены придется сломать). Следовательно, они склонны думать: если уж кто‑то первым бросается ломать стены, дабы вырваться на волю и стать тем, кем ему вздумается, то он отступник от древней идентичности и ценностей, на которых она держится.
Итак, чтобы прорваться к такой психологической свободе и сопутствующей ей культурной ассимиляции, нужно совершить череду революционных шагов в момент, переломный для истории миноритарной группы; но момент этот предопределяется вовсе не писателями‑революционерами в одиночку. Для него требуется не накопление «критической массы» героических индивидуальных решений, а просто рост численности, престижа и влияния того сообщества, которое доныне оставалось вне мифа. Массовая иммиграция восточноевропейских евреев в Соединенные Штаты закончилась к 1910 году; несколькими десятилетиями раньше прозаик, называвший себя «Сидни Луска», попытался собственноручно претворить некоторые, известные ему не понаслышке, аспекты нью‑йоркского житья‑бытья евреев‑иммигрантов в художественные произведения, способные растрогать всех американцев. Но теперь даже названия его романов («Так, как написано», «Бремя Торы») позабылись, так как для начала он принялся налагать на известные ему факты образ еврея как сверхчувствительного художника и провозвестника грядущего (соединив автопортрет Джордж Элиот в виде молодой еврейки в «Даниэле Деронде» и мечты своих современников — членов Общества этической культуры ). Вдобавок «Сидни Луска» в действительности был не еврей, а лишь неприкаянный белый англосакс‑протестант, который отпустил «еврейскую» (в его понимании) бороду и взял «еврейское» (в его понимании) имя; позднее, столкнувшись с мелочностью и слабохарактерностью реальных евреев, он вернул себе изначальное имя (Генри Харленд ), а в итоге покинул Америку и сделался редактором «Желтой книги» и автором антисемитского, созвучного моде на католичество бестселлера «Табакерка кардинала». Это комичное и жалкое фиаско — подобающий удел для того, кто, много возомнив о себе, вздумал единолично даровать евреям тот статус, который способны дать лишь время и история.

Создание персонажей‑евреев, способных жить в воображении американцев, не может быть делом лишь еврейских писателей — как подлинно еврейских, так и вообразивших себя еврейскими. Выйдя на поиски своего мифического «я», еврейский писатель непременно повстречает нееврейского писателя, у которого своя цель — найти компромисс с чужаком, затерянным в краю неевреев. Эти две цели — взаимодополняющие. Еврейский и нееврейский писатели — хоть осознанно, хоть бессознательно — должны сотрудничать между собой в качестве конкурентов или в качестве партнеров, поскольку без сотрудничества ни первый, ни второй не достигнут успеха. Наличие талантливых еврейских писателей, чьи интересы сосредоточены на еврейской жизни, а также самой этой интенсивной и сложной еврейской жизни как таковой — необходимые предпосылки для проникновения евреев в коллективную психику нееврейской Америки; но кроме этих двух предпосылок необходима и третья. А именно, к моменту прорыва еврей уже должен обрести способность проецировать психологические смыслы, горячо волнующие нееврейское сообщество, уже должен отражать (хотя бы символически) в своем образе жизни либо то, как живут или мечтают жить «другие», либо, самое малое (более вероятный вариант), тот образ жизни, который «другие» категорически, с тайным сожалением, отвергают. Но это уже обязанность нееврейских писателей, и потому, чтобы понять, как в годы Первой мировой и после ее окончания персонаж‑еврей обрел жизнеспособность в пространстве мифа, мы должны рассмотреть скорее творчество нееврейских писателей, чем еврейских писателей того же периода.
Конечно, некоторые еврейские писатели разной степени одаренности в те годы не только печатались, но и в определенных случаях имели широкий круг читателей. В прозе это были, к примеру, Фанни Хёрст и Эдна Фербер, писавшие для развлечения широких масс, юмористы умеренно интеллектуального типа вроде Дороти Паркер, и даже вполне серьезные прозаики — как‑то, Бен Хект (пока не перебрался в Голливуд) и Людвиг Льюисон (пока не капитулировал перед апологетами сионистов). «Поэтессы» XIX века из хороших сефардских семей (самая видная представительница — Эмма Лазарус) уступали место школьным учителям, остро сознававшим свою гражданскую ответственность: Луису Гинзбергу, Джеймсу Оппенхайму, Альфреду Креймборгу. Скромные достижения этих поэтов были сохранены наряду с недолговечными стихами Ф. П. А. и Артура Гутермана, произведениями некоторых представителей «гринвич‑вилледжской богемы» 1920‑х годов (например, Максвелла Боденхайма) и поэзией еврейских вундеркиндов типа Наталии Крейн, на страницах первых антологий — Луиса Антермайера . Во времена, когда поэзия постепенно превращалась в материал для чтения по школьной программе, некоторые еврейские журналисты и педагоги составляли стандартные антологии для школьников. Таким образом, эти американские еврейские писатели отчасти влияли на вкусы американской нации и все же не сумели создать — ни в стихах, ни в прозе — образы даже своей собственной жизни, способные овладеть воображением американцев. В любом случае писатели из антологий Антермайера и других составителей фактически не чувствовали себя евреями и стремились ассимилироваться, адаптироваться к великой американской культуре, присягая более грандиозным, чем их еврейство, общественным или культурным идеалам (будь то ценности богемы, социализма или гуманизма в широчайшем понимании).
Зато незабываемые образы евреев создавались писателями, которые были не только неевреями, но и антисемитами, теми, кто старался противодействовать ассимиляции, полагая, что евреи должны оставаться евреями. При этом важно понять, в чем природа их антисемитизма. То был вовсе не экономический антисемитизм пролетариев или популистов — не пресловутый «черный социализм» американских рабочих или бедных фермеров, которые отождествляют евреев с Уолл‑стрит и транснациональными банкирами. Нет, то был культурный антисемитизм образованного буржуа, желающего пробиться в высшее общество через карьеру в искусстве; и целью этого антисемитизма было не изгнание торгующих из храма, а отделение евреев, для которых культура — предмет наживы, от подлинных творцов культуры — неевреев, псевдохудожников (естественно, евреев) от подлинных художников (естественно, неевреев). Этот культурный антисемитизм неизбежно возникал, когда некоторые американские провинциалы‑неевреи (например, Теодор Драйзер и Шервуд Андерсон) перебирались из провинции в крупные города и там обнаруживали, что евреи, опередив их, обосновались в артистических кварталах Чикаго, Нового Орлеана и Нью‑Йорка; обострялся же он, когда другие американские провинциалы‑неевреи, вознамерившись пожить за границей (Паунд и Элиот, Хемингуэй, Фитцджеральд и Э. Э. Каммингс), обнаруживали евреев даже на левом берегу Сены, в самом сердце Эдема из своих грез. То, что в реальности увидели экспаты в вожделенном Париже, ярче всего изображено не в их собственных книгах, а в книге про всех них — «Бледнолицем» британца Уиндема Льюиса: «Загляни в кафе “Ле Дом” , ты, любой, <…> кому доведется побывать в Париже. Тебе покажется, что ты находишься на заседании Лиги Наций, куда нагрянула делегация сионистов, в киностудии, или в Москве, или на Бродвее, или даже в самом Сионе; где угодно, за исключением мифической герметично закрытой Америки…»
В 1930‑х в тот же самый город, уже оставленный, как сочли американцы, на откуп второсортным и низкопробным художникам, запоздало приехал Генри Миллер и вознегодовал, обнаружив, что в сообществе экспатов по‑прежнему диспропорционально велика доля евреев:
«Он — еврей, этот Боровский, и его отец был филателистом. Вообще весь Монпарнас — сплошные евреи. Или полуевреи, что даже хуже. И Карл, и Пола, и Кронстадт, и Борис, и Таня, и Сильвестр, и Молдорф, и Люсиль. Все, кроме Филмора. Генри Джордан Освальд тоже оказался евреем. Луи Никольс — еврей. Даже ван Норден и Шери — евреи. Фрэнсис Блейк — еврей или еврейка. Титус — еврей. Я засыпан евреями, как снегом. Я пишу это для своего приятеля Карла, отец которого тоже еврей. Это все необходимо понять.
Из всех этих евреев самая очаровательная — Таня, и ради нее я бы сам стал евреем. А почему нет? Я уже говорю, как еврей. Я безобразен, как еврей. Кроме того, кто может ненавидеть евреев так, как еврей?»

Неудивительно, что Миллер стал любимым писателем немецких оккупантов в Париже: они нашли у него не только секс, но и свою любимую идею фикс «еврей как абсолютный “другой”». А тем временем коллега Миллера, американский писатель с немецкими корнями 1930‑х годов (я едва удерживаюсь от соблазна назвать его «американским с нацистскими корнями» писателем) Томас Вулф находил в Нью‑Йорке схожие поводы для антисемитских тирад, глядя со страхом и ненавистью, а также с вожделением, которого стыдился, на молодых евреек в Нью‑Йоркском университете — предшественниц тех студенток‑евреек, которые, когда сменилось поколение, писали у научных руководителей‑евреев диссертации об этих литераторах‑антисемитах, работавших несколькими десятилетиями ранее.
Даже еврейские писатели 1930‑х годов по большей части сочиняли неприязненные пародии на своих соплеменников, особенно если их собственный мессия был скорее марксистским, чем иудейским (тому пример — Майкл Голд, автор книги «Евреи без денег» , первого «пролетарского романа» своей эпохи). Тот антисемитизм, который в сталинские времена глубоко въелся в советскую коммунистическую идеологию, отразился на компартии США (при том, что в ней преобладали евреи) и в литературе, верной партийной линии. Строго говоря, наличие подобного антисемитизма слыло доказательством того, что американские коммунисты‑евреи вырвались из пут местечковости и шовинизма. В любом случае, у Майкла Голда только образ идише моме (многострадальной матери) — положительный; а раввин, домовладелец, владелец ломбарда у него — отъявленные злодеи, причем их портреты у Голда подозрительно напоминают описания, вышедшие из‑под пера либо европейских гонителей евреев — например, Юлиуса Штрайхера , либо сынов американской провинции типа Томаса Вулфа.

В этом заключена ирония, обескураживающая для обеих сторон, поскольку антисемит, желающий всего лишь обругать еврея, в итоге обнаруживает, что сделал из него мифическую фигуру. А оскорбленный еврей со временем осознает: прежде чем писатели и читатели в США сочтут, что в образе еврея выражен, по сути своей, американец, вначале в еврее увидят, по сути своей, недруга американцев. И все же американским евреям горько думать о том, как много видных, крупнейших американских писателей в период, когда мы стали подлинной частью мировой литературы, рисовали антисемитские карикатуры не просто по привычке или по традиции, но исходя из своих убеждений и желаний. В памяти американских евреев хранится мрачная антология: от Каммингса («и пожалейте дураков / орущих хрипловато / мы требуем густых супов / не любим жидковатых») до Элиота («На подоконнике сидит еврей‑хозяин, / В Антверпене проклюнувшийся в мир, / В Брюсселе забуревший, в Лондоне / обшитый и ощипанный» ) и Паунда («жид — стимулятор, а гои — стадо, в брутто / пропорции, которое покорно идет на бойкую бойню» ), от Хемингуэя («Нет, вы послушайте, Джейк. У Брет были любовники. Но все‑таки не евреи, и они не приставали к ней после» ) и Фитцджеральда («Небольшого роста еврей с приплюснутым носом поднял голову и уставился на меня двумя пучками волос, пышно распустившимися у него в каждой ноздре. Чуть позже я разглядел в полутьме и пару узеньких глазок. <…> — Я вижу, вы смотрите на мои запонки. Я и не думал на них смотреть, но после этих слов посмотрел. <…> — Настоящие человеческие зубы, — с готовностью сообщил он» ), Майкла Голда («В ломбарде домовладелец сидел в черном альпаковом пальто и ермолке. Горбился на табуретке за прилавком. Вы видели, только его желтое чешуйчатое лицо и выпученные глаза; он напоминал спугнутого паука») и Томаса Вулфа («…евреев и евреек, и все они смеются, вопят, визжат, их плоть пышет жаркими, потными запахами, обдает тебя крепкими женскими запахами течки, промежности, подмышек и дешевых духов»).
После Гитлера любому порядочному человеку — хоть еврею, хоть нееврею — очень трудно признать, что самые живые и запоминающиеся портреты евреев, созданные в тот период, — детище не любви и понимания, а злобы и паранойи: Роберт Кон в «Фиесте» Хемингуэя и многоликий еврей‑ростовщик в «Песнях» Эзры Паунда, Борис из «Тропика Рака» Миллера и Эйб Джонс из «О времени и о реке» Вулфа: все они — «антигойим» и «антихудожники». Вместе с тем не все они одинаковы; хотя Хемингуэем и Паундом руководила схожая озлобленность, хотя после Первой мировой оба вращались в парижских салонах и прошли, так сказать, одну и ту же школу антисемитизма, их идеология резко разнилась.
Для писателей типа Паунда и Элиота глубокий смысл жизни, если она не сводится к «рождению, совокуплению и смерти», — в европейской культуре, особенно культуре Средних веков и Ренессанса. И в их глазах главный недруг — еврей, так как, когда создавалась эта культура, он не был к ней допущен, а теперь этот торгаш‑турист и ростовщик‑миллионщик желает присвоить то, чего никогда не создавал, скупать памятники высокой христианской культуры, беззаконно вселяться в них, оскверняя их уже своим присутствием. Следовательно, евреи воспринимаются, и изображаются, и противопоставляются не только художникам, но и аристократии, которая традиционно поддерживала художников в их золотой век.
С другой стороны, для писателей типа Хемингуэя — адептов непосредственного жизненного опыта, которые ехали в Европу ловить рыбу, а не молиться (правда, и чтобы писать книги, конечно) — еврей олицетворяет псевдохудожника. Им представляется, что еврей, наряду с гомосексуалистом, травестирует и фальсифицирует их собственную реальную роль, поскольку создает в глазах публики образ, от которого им трудно дистанцироваться, — образ изнеженного интеллектуала, чересчур велеречивого, псевдоцивилизованного шарлатана. Также в их глазах еврей — противоположность негра, индейца, крестьянина, тореро или любого другого представителя благородных дикарей, с которыми подобные писатели стремились отождествлять себя и на родине, и за рубежом. Когда крепнет либо культ первобытной культуры, либо традиция аристократической жантильности, в еврее, вероятно, начинают видеть противника; ибо он — антитеза негра и индейца, проекция скорее грозного интеллекта, чем сомнительного порыва, а «аристократический» на языке духа равносилен «нееврейскому». Еврей — не краснокожий и не бледнолицый, не джентльмен и не жеребец‑производитель, куда ему податься, к чему апеллировать в американском воображении, которое, похоже, беспомощно мечется между этими двумя полюсами? Неужто еврей обречен оставаться абсолютным «не‑американцем», в котором все видят чужака?
Вначале кажется, что ответа на этот вопрос нет, но со временем ответ приходит сам, причем в той же системе координат, в которой задан вопрос. Когда американцам приелись неоаристократизм, выборочное почитание предков и высокоцерковное благочестие Элиота, когда заодно им осточертели самоненависть белой расы, культ кровавого спорта и невежества, а всего сильнее обрыдли метания между первым и вторым, что ж — почему бы не найти отдушину в еврейских писателях и мире, созданном их фантазией? При посредничестве своих еврейских писателей американцы смогли после Второй мировой войны наладить связь с Европой на новых основаниях — не на основе былого сродства бледнолицых: не с Европой полуразрушенных замков и архиепископа Кентерберийского, не с Европой провансальских поэтов, Данте и Джона Донна, не с Европой французских символистов и убийственно учтивой «Аксьон Франсез» , ибо все эти Европы — христианские; нет, это связь с постхристианской Европой Маркса и Фрейда, то есть секуляризированного иудаизма, а также с Европой сюрреализма и экзистенциализма, Кафки и неохасидизма, с Европой, которую одновременно отталкивает и влечет пустота, возникшая после смерти ее христианского Бога.
И через тех же посредников американцы‑неевреи открыли для себя, что возможна новая разновидность пошлости, непохожая на старинные шутки про краснокожих и сальности «не при дамах» из вещиц типа «1601» Марка Твена, требующие наивности и простодушия как от автора, так и от аудитории. Специфическая еврейская пошлость, образчики которой — виртуозные или не очень — можно найти у Бена Хекта и Майкла Голда, Натаниэля Уэста, Нормана Мейлера и Филипа Рота, не просто отличается изощренностью, но и уживается с возвышенной сложностью и даже с метафизической трансцендентальностью. Семит, как сказал однажды кто‑то (про арабов, но это определение можно распространить и на евреев), стоит по уши в навозе, но челом касается небес. А на чем еще стоять, кроме навоза, в этом мире, погребенном под изысканными экскрементами масс‑медиа; и к чему, кроме небес, тянуться в мире, где все мечты о земном рае кончились пшиком?
Более того, ум американского еврея, выкованный двумя тысячелетиями исторического опыта, указывает другим американцам выход из ловушки, в которую их загнали нерешительные метания между изоляционизмом и экспатриацией, шовинизмом и национальной самоненавистью. Американские еврейские писатели, как правило, не бывают ни экспатами, ни «пламенными патриотами» и не делают ни экспатов, ни «пламенных патриотов» главными героями своих книг. Им по характеру больше соответствуют умеренно циничные отчеты об «инпатриации» — побеге из квазиевропейского мегаполиса в провинциальный городок — основанные на их собственном опыте. Когда им хотелось уехать из Нью‑Йорка, Чикаго, Бостона или Балтимора, они искали идеальное место изгнания не за пределами Америки, а в глубинке — в маленьких городках Нью‑Мексико, Орегона, Небраски и Монтаны.
Как‑никак, если ты ищешь что‑то непохожее на место своего рождения, то Нью‑Йорк отличается от Афин (штат Джорджия), сильнее, чем от греческих Афин, а Чикаго от Москвы (штат Айдахо) — больше, чем от российской Москвы. Года два назад эта новая миграция впервые была описана средствами художественной прозы — в комедийной истории про еврея‑горожанина в маленьком университете на Западе США. Я имею в виду роман Бернарда Маламуда «Новая жизнь». Но, хотя книга Маламуда начинается с изгнания, заканчивается она возвращением; ибо, как и экспаты былых времен, сегодняшний «инпат» тоже в итоге отправляется домой, возвращаясь на Восток США столь же неизбежно, как его предтечи — на Запад.

Побег, как учит опыт еврейского народа, непременно оказывается побегом из одного изгнания в другое, и американцы это всегда знали, хотя не всегда признавали. Иммигранта, который покинул Старый Свет, спасаясь от изгойства, ждет одиночество в Новом Свете; когда же он бежит от коллективного одиночества, характерного для городов у океана, то обнаруживает запредельную изолированность на фронтире. Америку создала именно эта мечта об изгнании, дающем свободу, но самосознание американцев закалено опытом, а он учит, что изгнание ужасно.
И все же старую американскую мудрость, которая гласит, что как раз на родине мы в изгнании, что человеку от природы свойственно повсюду чувствовать себя чужим, именно еврей сумел лучше всех подогнать под восприятие американцев ХХ века — то есть жителей мегаполиса. Американец‑горожанин, озираясь вокруг, оглядывая свой дом — эту безымянную агломерацию машин, генерирующих уют, сознает, что к изгнанию не стремятся — его вынужденно терпят. Сознает и охотно верит еврейскому писателю, который говорит ему о том же. Вполне естественно, что в этом плане еврейский писатель выражает взгляды американцев‑горожан, ведь он — потомок тех, чье сознание уже радикально изменено многовековой жизнью в городах, и потому чувствует себя вольготно среди первого в ХХ веке поколения подлинно городских американских писателей. В отличие от тех, кто прибыл в США с первыми волнами переселенцев, вытеснив представителей подлинного старого Бостона и старого Нью‑Йорка, он — не провинциал, не какой‑нибудь Льюис, Андерсон или Паунд, приехавший из своего захолустья поглазеть на мегаполис; нет, это житель метрополии, и он у себя дома, хотя ему знакомы скорее унизительные, чем приятные стороны городской жизни.
Следовательно, американский еврейский писатель не желает, что характерно, писать ни, по традиции, в трагическом ключе, ни, опять же по традиции, в комическом; на его взгляд, это жанры для аристократии, существовавшие в доиндустриальную эпоху, до появления массовой культуры и отражавшие стремление правящего сословия воспевать свои страдания и высмеивать страдания низших, с его точки зрения, сословий, воспринимать всерьез лишь свои несчастья. Еврей же, напротив: в недрах своего воображения (и, естественно, под влиянием манящей его нееврейской культуры) функционирует как «сам себе “другой”, сам себе низшее сословие»; поэтому смеяться он должен над самим собой, а если и воспевать себя, то через насмешки над собой же. Это и есть знаменитый еврейский юмор, укорененный в смирении, которое слишком смиренно, чтобы считать свое самоуничижение благочестивым, и в скромности, которая слишком скромна, чтобы относиться всерьез к своему соприкосновению с болью. Вдобавок это начало некого третьего литературного жанра — ни трагедии, ни комедии — при том, что он тоже основан на ощущении абсурдности людского удела. И расцвет этого жанра в сегодняшней американской литературе — в основном заслуга некоторых американских еврейских писателей (правда, без Марка Твена и Шолом‑Алейхема не обошлось).
В последние 30 лет мы точно так же наблюдали, что некоторые архетипы американского героя были перелицованы в соответствии с жизнью американских горожан во втором поколении, а приключения этих героев — пересказаны тем американским английским языком, который перенял ритмы идиша и пропитался особым юмором, вызревшим в еврейском анекдоте. Так великие образы, всплывающие из недр нашего воображения, казавшиеся нам американскими до мозга костей, теперь оказываются и характерно еврейскими (или, как минимум, могут казаться еврейскими). И это вовсе не «кража явлений культуры», а открытие межкультурного сходства. Посмотрим, к примеру, что сталось в середине ХХ века с Гекльберри Финном, самым одиноким из американцев, вечно и по определению свободным от любых обязательств. Маргинал до мозга костей, он чужд как общепринятой добродетельности, так и заурядным злодействам, живет вне брака и семьи ввиду сформировавших его жизненных обстоятельств, а в итоге зависает в пустоте между радостью и страданием, обречен на одиночество и сам его отчаянно жаждет. Для тех, кто уцелел в 1930‑х годах, его воссоздал Сол Беллоу: теперь он уроженец северо‑западного Чикаго, ишачит на мелких гангстеров‑евреев, читает Кафку и Маркса, уезжает в Мексику, чтобы поселиться подле Льва Троцкого, и зовут его Оги Марч. Либо его воссоздает Дж. Д. Сэлинджер для молодой, более невежественной аудитории: он — ньюйоркец с Вест‑Сайда, из мира уютно ассимилировавшихся, зажиточных евреев (хотя его имя ловко маскирует национальное происхождение), он смывается из дорогой частной школы, остается живым и невредимым, шатаясь по большому городу среди жулья и обманщиков, и зовут его Холден Колфилд.
А что тем временем случилось с типичнейшими героями американской поэзии? Задуманный столь глубоким и своеобычным, столь страстно и ярко обрисованный индивидуальностью поэта, который его создал, этот герой ироикомической поэмы, выкрикивающий сквозь слезы самый патетический и чарующий образчик американской похвальбы: «Я человек, я страдал вместе с ними» , был, казалось, обречен навеки остаться тем, кем был изначально, — Уолтом Уитменом, который родился в семье квакеров и жил в мире, где не было евреев. Но теперь, невероятнейшим образом рожденный заново, он вспоминает, как, сидя рядом с матерью, слушал Израиля Амтера, кумира американских коммунистов‑евреев в 1930‑х годах, он клянет Америку за то, что она сделала с его дядей Максом, он изливает в своем вопле возмущение миром своего отца (миром еврейских школьных учителей‑поэтов, который увековечил Луис Антермайер), а потом, после того, как он символически убил этот мир, пишет книгу «Кадиш» — это название еврейской поминальной молитвы и самое нежное имя, которым еврей называет своего сына. То есть Уолт Уитмен становится Алленом Гинзбергом.
Но не только на уровне «высоколобых» Беллоу и Гинзберга, но и на всех уровнях нашей литературы архетип и стереотип в равной мере усваиваются еврейским воображением и переосмысливаются для восприятия неевреев. Например, Норман Мейлер и Ирвин Шоу сообща вознамерились втолковать нам, что взвод американской армии не полон, если в нем нет впечатлительного еврея, который страдает от подначек сослуживцев и запечатлевает для потомков их подвиги, а Герман Вук разъяснил, что осаждаемая соблазнителями непреклонная девственница, которую женская часть англосаксонского мира когда‑то мнила бледной проекцией своих порывов, — в действительности хорошая еврейская девочка, которая опрометчиво поменяла фамилию . То, чему учат Шоу и Вук, кинематограф и журнал «Тайм» возвещают широчайшей аудитории; и разве кто‑то станет им перечить во времена, когда всякий здравомыслящий человек одобряет существование Израиля и ненавидит даже память о Гитлере, в мире, где Анна Франк, наша новейшая секулярная святая, взирает на всех нас с рекламных щитов. Даже самые безумные поборники сегрегации порой сочетают поношения негров с похвалами в адрес евреев. «С дней Авраамовых… — пишет некий преподобный Г. Т. Гиллеспи из Миссисипи, — иудеи <…> сделались уважаемым народом <…> и внесли неоценимый вклад в духовно‑нравственный прогресс человечества». Так что немногочисленные полоумные антисемиты, которые все еще шлют по почте протестующие возгласы («Каждая напечатанная книга <…> либо написана, либо отредактирована, либо разрекламирована, либо издана — а обычно все сразу — евреями… эти издатели ведут войну как против американского интеллекта, так и против христианской морали Америки»), похоже, вряд ли заслуживают нашего внимания, даже презрительного.
И ни конца ни края этому не видно. Например, совсем недавно, в сценарии Артура Миллера для фильма «Неприкаянные», предпринята попытка адаптировать классический американский вестерн к новым временам и новым функциям. Задача не только в том, чтобы превратить вестерн в «кино для зрелых людей» (как выражаются, похваляясь своими поделками для телевидения, некоторые умеренно интеллектуальные деятели, промышляющие этим жанром), а в том, чтобы перевернуть с ног на голову миф, воплощенный в расхожих версиях нашего архетипического сюжета (например, в «Виргинце» и «Ровно в полдень» ). В обоих этих произведениях конфликт между мужчиной и женщиной, которые символизируют, соответственно, рыцарский кодекс Запада и пацифизм христианства, заканчивается капитуляцией женщины и отказом от всепрощения в пользу силы. Однако героиня «Неприкаянных» — уже не та благочестивая, красивая, хоть и плоскогрудая училка (неевреи‑американцы прекрасно знают, что таковы были их родные бабушки), а грудастая крашеная блондинка, переполненная жизненной силой и звериной энергией; в ней сконцентрированы все мечты еврея о шиксе — недопустимой, с точки зрения его бабушек, спутнице жизни. В фильме по сценарию Миллера эту архетипическую блондинку сыграла Мэрилин Монро (в то время еще жена Миллера, принявшая иудаизм), и в данных обстоятельствах она была просто обязана взять верх над мужским Старым Западом, этой мечтой неевреев о насилии и смерти, которой они предавались на субботних дневных киносеансах, мечтой, олицетворенной в Кларке Гейбле, укротителе лошадей и женщин. Что оставалось Гейблу после столь унизительного поражения? Только смерть, и это вполне логично. Выжил один лишь автор, но та самая мечта, которую он воспел в фильме, сыграла роковую роль в его семейной жизни.
Американские еврейские писатели все появляются и появляются, поколение за поколением (причем не успевает уйти одно поколение, как на пятки ему наступает следующее): Беллоу и Маламуд, Ирвин Шоу, Артур Миллер и Карл Шапиро, а вслед за ними — Дж. Д. Сэлинджер, Норман Мейлер и Грейс Пейли, за ними пришли Филип Рот, Брюс Джей Фридман и Норман Фрухтер , и так далее, и тому подобное, пока, наконец, Гор Видал — белый англосакс‑протестант — не написал с притворным ужасом (но также с подспудной искренней горечью) на страницах «Партизан ревью», где многие из этих литераторов и впрямь опубликовались впервые: «Каждый год составляется короткий список модных писателей. В сегодняшнем списке два еврея, два негра и один сменный беспроигрышный нееврей из старого американского истеблишмента (последним часто оказывается Райт Моррис )».
Однако на деле весь мир, а не только наши критики, год за годом включает в список двух новых евреев, добавляет двух негров и одного вечно открываемого заново нееврея. Английский старшеклассник из Манчестера торчит от Нормана Мейлера, а его ровесник из классического лицея в Милане мнит себя сэлинджеровским giovane Holden . Сейчас, когда молодые европейцы повсюду (и даже, наконец‑то, в Англии) воображают себя американцами, американец воображает себя евреем. Но наше положение иронично вдвойне: ровно в ту же минуту еврей, которому подражают его сограждане‑неевреи, находится, вполне возможно, в процессе превращения в воображаемого негра. «Обязаны ли мы сделаться нееврейскими евреями прежде, чем сможем сделаться белыми неграми ?» — спросил меня недавно, когда я выступал перед студентами, один нетерпеливый, умеренно продвинутый юноша. В его словах была лишь доля шутки.

Холокост и после Холокоста

Еврейская культура и интеллектуалы

