Постепенное признание
Любопытно, что открытия Хаюджа и Ибн‑Джанаха, хотя и быстро достигли христианской Европы и арабоязычного Востока, долго не оказывали заметного влияния на научную мысль там. Правда, некоторые восточные ученые, возможно включая Гая Гаона, друга и корреспондента Шмуэля Ибн‑Нагрелы, выказывали неподдельное уважение к трудам Хаюджа. Если верить Ибн‑Пархону, они говорили: «Мы не получали еще ничего достойного с Запада, за исключением этой книги, которая превосходит своим совершенством все, написанное на данную тему». Тем не менее Авраам Вавилонянин и другие восточные грамматисты еще много времени спустя серьезно обсуждали однобуквенные корни, как будто бы Хаюдж ничего не писал об исчезновении букв в «слабых» и удвоенных глаголах. Фрагмент грамматического сочинения, составленного неким Натанелем из Йемена и опубликованного Коковцовым, свидетельствует о том, что автор пребывал в полном неведении относительно достижений испанцев, хотя, похоже, родился в Египте и явно не был чужд философии. И на Западе Раши и его ученики никогда не выходили за пределы учения Менахема. Даже тонкие замечания Раши об особенностях спряжения глаголов, которые начинаются с нун или содержат в середине аин, а также предложенный им термин «выпадающий корень» (йесод нофель) не шли дальше учения и терминологии Менахема. Внук Раши Яаков Там , как мы помним, все еще рассуждал о полемике между Дунашем бен Лабратом и учениками Менахема. Позднейший немецкий экзегет (чьи библейские глоссы, видимо, появились не многим раньше, чем единственная сохранившаяся копия его труда 1337 года) знал об Ибн‑Пархоне, но ни разу не ссылался на Хаюджа, Ибн‑Джанаха или Ибн‑Эзру. Для него словарь Менахема все еще представлял собой высшее достижение науки о языке.
Несомненно, причинами того, что на Востоке и на Западе пренебрегали новыми открытиями в области языкознания, служат консерватизм и преклонение перед признанными авторитетами. Там считали ненужным и упорно игнорировали учение, которое вскоре стало доступным в переводах на иврит: Моше Ибн‑Гикатилла и Ибн‑Эзра перевели сочинения Хаюджа, а Йеуда Ибн‑Тиббон — величайшее произведение Ибн‑Джанаха. Успех собственных трудов Ибн‑Эзры способствовал популярности его переводов. На Востоке поэзия и проза на иврите постепенно пришли в упадок и уступили место исключительно творчеству на арабском языке. Так было и в общинах Земли Израиля после их разрушения крестоносцами. Еще в X веке Дунаш Ибн‑Тамим верил, что «жители Земли Израиля и [особенно] Тверии — хранители языка иврит и его природные наследники, тогда как в других местах нашему народу этот язык знаком лишь в литературной, а не в живой форме». Теперь все переменилось. В Испании бурно развивалась поэзия, кроме того, достижения в языковедении вытекали из повседневного использования иврита пусть не в устной речи, но на письме. В христианской Европе евреи тоже писали на иврите, но их язык был достаточно беден лексически и грамматически, авторы ограничивались традиционными моделями. Ашкеназские авторы обходились словарем Менахема бен Сарука, а в библейской экзегезе над всем главенствовали комментарии Раши. Даже в Риме, где вскоре появился великий поэт Иммануэль, многие цеплялись за авторитет Менахема. Через несколько лет после того как Рим посетил Ибн‑Эзра, Менахем бен Шломо создал там энциклопедическое философско‑экзегетическое сочинение Эвен бохан («Пробирный камень»), которое все еще целиком основывалось на словаре Менахема бен Сарука, а не Ибн‑Джанаха.
Впрочем, некий молодой француз, по‑видимому, в ходе поездки в Испанию вскоре после 1050 года убедил Моше Ибн‑Гикатиллу перевести на иврит два главных трактата Хаюджа. Этот перевод сам по себе был смелым новаторским экспериментом. Вместе с переводами Товьи бен Моше из Константинополя караимских библейских комментариев почти того же периода труд Моше считается первым крупным переводом с арабского на иврит. Примечательно, что в нем нет языковой вымученности, характерной для позднейших переводов Тиббонидов. Его плавный и богатый идиомами иврит иногда превосходит оригинальные ивритские сочинения Менахема и авторов, которые участвовали в полемике о его трудах. Ибн‑Гикатиллу мало беспокоила цена, которую ему приходилось платить за живость изложения. Часто он сознательно слишком свободно передавал идеи автора и без малейших колебаний снабжал перевод собственными наблюдениями, которые несведущие читатели путали с взглядами самого Хаюджа.
Ибн‑Гикатилла также не был слепым последователем великих учителей. Он написал трактат о грамматических аспектах мужского и женского рода, где затронул и смежные темы. Например, он указал, что шесть металлов, упомянутых в Писании, встречаются там только во множественном числе. Касаясь животрепещущей проблемы трехбуквенного корня, он предложил новое «исчерпывающее доказательство»: если бы существовали двухбуквенные корни, то глаголы, изначально состоящие из двух постоянно исчезающих «слабых» букв, при определенных обстоятельствах могли бы вообще раствориться в воздухе. Подтверждая этот аргумент, он виртуозно воспользовался собственными библейскими изысканиями, а также учениями арабских грамматистов. В одном случае он пришел к тому, что объявил о существовании в иврите семи вместо принятых шести форм переходных глаголов. Он считал, что в иврите, как и в арабском языке, можно построить предложение, в котором глагол имел бы тройную переходность. В то же время приведенный им пример: «Г‑сподь обучил Израиль верному пути» — доказывал лишь, что глагол может управлять тремя словами, но не тремя объектами. Ибн‑Барон, которому мы обязаны этой цитатой, справедливо отмечал, что, увеличивая число прилагательных (например, «хорошему, праведному и верному» пути) можно до бесконечности умножать число управляемых слов.
Ибн‑Гикатилла явно не заслуживал восхвалений, которыми осыпал его Авраам Ибн‑Эзра, однажды назвавший его величайшим из грамматистов, однако именно он открыл сокровищницу еврейско‑испанской учености читавшим на иврите европейцам. Вместе со Шмуэлем, главным противником Ибн‑Джанаха, и другими современниками он продолжал развивать эту область знания и не дал еврейско‑испанской науке самодовольно почить на лаврах Хаюджа и Ибн‑Джанаха. Его оппонент Моше Ибн‑Балам тоже включился в дискуссию, предложив трактаты об омонимах, частицах и отыменных глаголах (глаголах, образованных от существительных), а также написав вводное «Руководство для читателей Писания». Здесь он удержался от обычных для него нападок на Ибн‑Гикатиллу, вероятно, потому, что грамматические теории меньше зависели от различия в богословских взглядах. По той же причине трактат о флексиях Ибн‑Яшуша, похоже, вызвал меньше разногласий, чем его библейские комментарии, но и привлек меньше внимания.
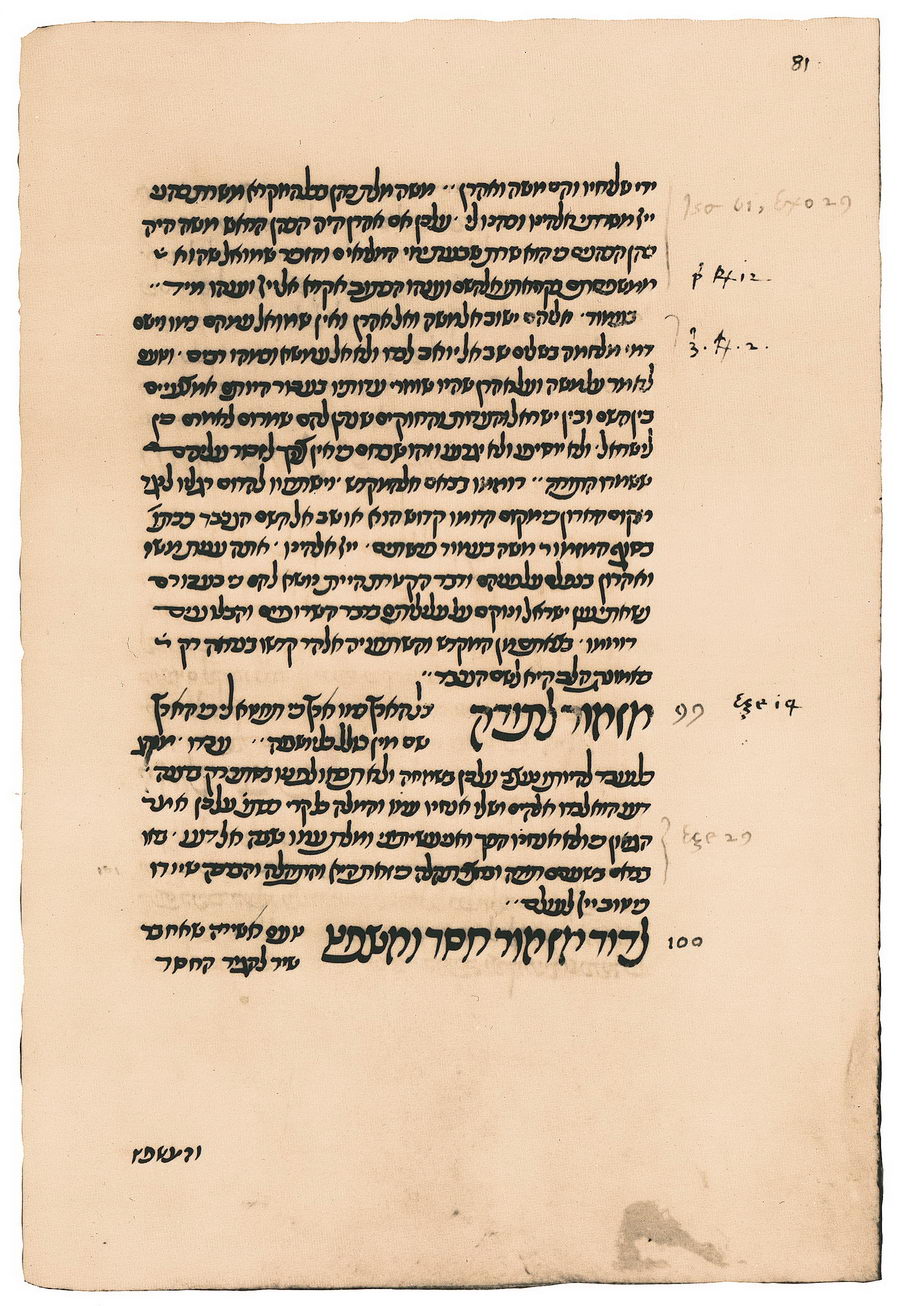
Любопытное применение поэзии для обучения грамматике предложил Ибн‑Габироль в поэме Анак («Ожерелье»), хотя обычно поступали наоборот: грамматические правила использовали для сочинения стихов. В этой поэме, состоявшей из 400 двустиший (из них сохранилось только 98), автор, которому тогда было всего 19 лет, взялся изложить для несведущих важнейшие грамматические правила. Из его собственного описания и нескольких позднейших цитат можно заключить, что в четырех главах поэмы он описал функции корневых и служебных букв (по 11 букв в каждой группе, как у Саадьи, но с новыми анаграммами, которые можно перевести как «Я Шломо писатель» и «Лишь испанская кровь безупречна»), а также принятое трехчастное деление частей речи на существительные, глаголы и слова «третьего» типа (служебные слова). К этому просветительскому начинанию автора подвигло прискорбное наблюдение о величайшем забвении иврита среди народа, «половина которого говорит на языке эдомитян [романских языках], а другая половина — на сумрачном языке сынов Кедара [арабском]» . Автор надеялся «отворить уста, замкнутые в молчании».
Просветительские цели преследовал и Авраам Ибн‑Эзра, чьи грамматические трактаты завоевали признание, остались в истории и превзошли более оригинальные и глубокие труды предшественников. Ранний труд Сефер мознаим («Книга весов») он предварил интересным историческим введением, где дал обзор достижений науки об иврите, затем написал трактат в защиту Саадьи против критики Дунаша бен Лабрата и в конце концов выпустил свои главные труды по языкознанию: Йесод дикдук («Основа грамматики», до сих пор не опубликован ), Сефер цахот («Книга ясности») и Сафа брура («Чистый язык»; аллюзия на Цфанья, 3:9). Два последних названия указывают на его стремление к «правильной речи». Через эти произведения красной нитью проходит стремление автора рассказать о достижениях своих предшественников, испанских ученых; он обращается главным образом к своим единоверцам, живущим к северу и востоку от Испании. Ибн‑Эзра стремился «очистить» ивритский стиль, присущий большинству его современников.
Решительно клеймя любое отклонение от грамматики в ее нормативном виде, принятом в испанских школах, Ибн‑Эзра призывал всех, кто изучает Писание, раввинистическую литературу, философию и естественные науки, строго следить за правильностью устной и письменной речи. По своему обыкновению он также предлагал философские и даже астрологические обоснования некоторых языковедческих концепций. Типичны для его метода вступительные слова книги Йесод, которая по давнему обычаю арабской литературы открывается хвалой Г‑споду:
В начале всякой мысли, у истоков всякой речи позвольте мне превознести Того, Кто дал человеку разум, чтобы он мог мыслить; Кто «сотворил речение уст», чтобы он мог правильно говорить; и наделил существо, обладающее разумом, властью исторгать из своих уст слова, подобные телам, тогда как значение их подобно душам. Как жизнь души видима лишь посредством тела, предназначенного служить ей обиталищем, и как душа получает силу лишь в согласии с природным строением тела, так и значение воплощается в реальности лишь посредством слов. Кто силится объяснить Писание, не проникнув в тайны ивритской грамматики, притом неважно, с каким вниманием он слушает, натыкается на стены, как слепец, и не ведает, на что наткнулся.
Особенно резко возражал Ибн‑Эзра против допущения, что стихотворение может иметь десять различных смыслов или, как учил Менахем, что слово может в одном контексте означать одно, а в другом контексте — прямо противоположное. Больше, чем любой другой библейский комментатор, он обращал внимание на грамматические аспекты каждого слова и фразы, часто предваряя истолкование главы обсуждением грамматических проблем, которые возникают в связи с ней. Он вставлял пространные грамматические экскурсы в такие полуфилософские трактаты, как сочинение о Б‑жественных именах (Сефер а‑Шем) или о принципах иудаизма (Йесод мора, или «Принципы страха Б‑жьего»), а также в труды, затрагивающие математические вопросы, например в Йесод миспар («Основа чисел»).
Ибн‑Эзра весьма интересовался языковедческой терминологией и понимал связанные с ней проблемы. Он пошел дальше всех предшественников и составил длинные списки грамматических терминов с определениями. В то же время он без колебаний называл то или иное грамматическое или лексикографическое толкование еретическим. Он метал громы и молнии против караимов, которые, невзирая на традицию, например, считали гей в а‑йитав («будет ли это угодно»; Ваикра, 10:19) артиклем, а не вопросительной частицей. Досталось и раббанитам Дунашу бен Лабрату и Ибн‑Яшушу. В сочинении, написанном в защиту Саадьи от Дунаша, под названием Сфат йетер («Язык чванливый» — имеется в виду Дунаш, см. Мишлей, 17:7), он обвинил Дунаша в прямой клевете: тот неправильно интерпретировал слово рееха (перевод Саадьи — «сколь тяжелы мысли Твои обо мне, о Б‑же!»; Тегилим, 139:17 ), считая, что оно означает «друзья Твои и товарищи». В гневе против такого антропоморфизма, который принял и Раши, Ибн‑Эзра восклицал: «Книгу его [Дунаша] следует сжечь!» Ту же фразу он использовал и в адрес Ибн‑Яшуша за его излишне критические замечания. Праведный гнев не мешал ему нередко соглашаться со взглядами Дунаша, а не Саадьи в собственных библейских комментариях.
Широта воззрений и богатый жизненный опыт позволили Ибн‑Эзре воспринимать грамматические исследования не только как важное средство экзегетики. Он часто повторял: «Мы, грамматисты, всегда следуем за Писанием» — и специально наставлял учеников всегда следить за библейской акцентуацией, поскольку «не следует принимать или выслушивать толкование, в котором огласовкам не воздают должное» (Сефер мознаим, л. 4б; против Саадьи), однако с тем же жаром настаивал на том, что грамматические правила можно выводить и посредством аналогий и других форм рассуждения. В философско‑этическом трактате Йесод мора он подробно рассуждал о грамматических проблемах, важных в равной степени для прозаиков, поэтов и изучающих Писание.

Подобным образом рассуждали и два других выходца из Испании, которые поселились в христианских странах. Ибн‑Пархон, как мы помним, пребывал под сильным влиянием Ибн‑Эзры, когда составлял интересный и увлекательный словарь для евреев своей новой родины — Италии. Менее очевидным, но вполне заметным было и влияние Ибн‑Эзры на Йосефа бен Ицхака Кимхи — испанца, поселившегося в Нарбонне. Даже в этом городе, ранее занятом арабами, с великими произведениями испанской науки о языке были знакомы немногие. На севере французские евреи все еще пользовались словарем Менахема бен Сарука. Для них Йосеф составил новый, более популярный грамматический труд, который получил название Сефер зикарон («Книга памяти»; ср. Малахи, 3:16), и книгу в двух частях, посвященную главным образом критике взглядов Менахема, ее он озаглавил Сефер а‑галуй («Открытая книга»; ср. Ирмеяу, 32:14). В первом из сочинений освещалось сделанное автором значительное открытие, что ивритские гласные делятся на десять категорий (пять долгих и пять кратких, в число которых входит камац катан как производная огласовки холам, а не камац гадоль). Эта классификация сильно упростила понимание ивритских слов и вскоре получила широкое распространение. В последние десятилетия ее подвергают сомнению, ссылаясь на компаративные исследования семитских языков. Очень быстро классификация Йосефа вытеснила учение о семи гласных (или «царях», как называли их масореты за главную роль в образовании слов), которые развились из первоначальных семитских звуков а, и, о.
Во второй книге Йосеф бросил вызов невероятно популярному сочинению Менахема, которого еще больше почитали благодаря признанию Раши и рабейну Тама. Поэтому Йосеф не только критиковал взгляды Менахема, но и вступал в противоборство с почтенным учителем из Рамрю , когда в своем труде отдавал предпочтение взглядам Дунаша бен Лабрата, опровергая «Решения» рабейну Тама или противореча им обоим. Конечно, Кимхи понимал, что критиковать Яакова Тама в его стране — весьма смелый поступок. Предчувствуя, что читатели скажут: «Кто ты, взывающий к царю?» (Шмуэль I, 26:14), он заявлял: рабби Яаков был непререкаемым авторитетом в талмудической учености, но никогда и не пытался по‑настоящему проникнуть в глубины еврейской литературы, посвященной грамматике, — на самом деле, Кимхи не считал языкознание самостоятельной дисциплиной. «Я же наоборот, дожил до 60 лет и постоянно, день и ночь, трудился в этой сфере». Кимхи также выступал против распространенного предубеждения о ненаучности грамматических исследований, приводя пословицу: «Кто не знает ремесла, презирает его».

Йосеф Кимхи нашел прекрасных помощников в лице двух своих сыновей, Моше и Давида, которые и сами стали выдающимися языковедами. Слава Давида вскоре затмила славу отца и брата, а на самом деле и всех предшественников, и в эпоху Ренессанса его сочинение служило источником для большинства ученых‑гебраистов из числа христиан. Книгой Маалах швилей а‑даат («Направление путей к знанию»), первой печатной ивритской грамматикой, Моше Кимхи внес огромный вклад в науку, систематически развив учение о семи парадигмах ивритского глагола от каль до итпаэль, основания которому заложило рассуждение Саадьи о различных формах пород каль и гифиль для глагола шама. Моше предпочел использовать глагол пакад, чтобы избежать в примере «слабый» согласный аин. В трилогии, состоявшей из книг Михлоль («Совершенство»; ивритская грамматика), Сефер а‑шорашим («Книга корней»; лексикон) и Эт а‑софер («Перо писца»; о масоре), Давид подытожил результаты языковедческих исследований двух предшествовавших столетий, сделав свой труд равно интересным для ученых и для широкой публики. Пожалуй, эти книги недостаточно систематизированы, часто излишне многословны, в них много повторов. В то же время две последние быстро завоевали всеобщее признание. Давид скромно отрицал оригинальность своих изысканий и называл себя всего лишь «подбирающим колоски за жнецами». В то же время от автора тогда требовалось немало изобретательности и независимости мышления, чтобы выработать верное решение — надо было пробраться через запутанный лабиринт, составленный из полностью противоречивших друг другу мнений ученых‑предшественников, бесконечного числа мелких и не всегда последовательных суждений. Книги Кимхи знаменуют собой достойное завершение самой плодотворной эпохи в истории науки об иврите.
Миссионерский пыл, с каким Ибн‑Эзра, Ибн‑Пархон и члены семейства Кимхи пропагандировали в христианских странах новые грамматические правила и законы, сложившиеся в Испании, объясняется их идеей или, возможно, ощущением, что будущее еврейской учености закладывается в еврейских общинах бывшего государства франков и в Италии. Это было сформулировано в те же годы великим мудрецом из Фустата в его переписке с учеными Люнеля . Ибн‑Эзра, Ибн‑Пархон и члены семейства Кимхи часто повторяли благочестивое клише, что нельзя правильно понять Писание без знания законов ивритской грамматики, однако их интерес явно простирался дальше. Они хотели усовершенствовать иврит, который имел хождение в христианских странах, очистив его от того, что считалось варварскими наслоениями, и обогатить язык новыми словами и грамматическими формами, введенными великими испанскими мыслителями.
Ученые, как и следовало ожидать, столкнулись с серьезным сопротивлением. Новый подход вызывал протест консерваторов, которые хотели сохранить науку о языке в качестве служанки библейской экзегезы. Подобная реакционная тенденция проявилась в анонимном грамматическом сочинении XIII века, опубликованном Познанским. Автор его, возможно, проживавший в Византии, гневно протестовал против употребления любых слов и форм не из Писания:
Кто своевольно осмеливается придумывать из головы [новые формы] и говорит: «Я могу это делать, хотя я и не нашел [их] в Библии», нарушает заповедь «не прибавляй к тому и не убавляй от того» [Дварим, 13:1]. Ведь мы не вправе пользоваться другим языком, кроме того, на котором говорили пророки и древние мудрецы. Если некто изменяет их язык и пользуется собственным, «всякий, кто услышит, посмеется» над ним [Берешит, 21:6]. Поэты нашего поколения заблуждаются на этот счет, когда употребляют в своих стихах слова вроде икру или идру [не существующие в Библии в форме пиэль]. Нет нужды много говорить об этом, поскольку заблуждение это распространилось широко и испортило язык.
Обновление языка, о необходимости которого говорили известные ивритские грамматисты от Ибн‑Эзры до Давида Кимхи и в котором северные авторы испытывали острую потребность, в конце концов началось: новая грамматика возобладала над старой и в ашкеназских, и в итальянских школах. 
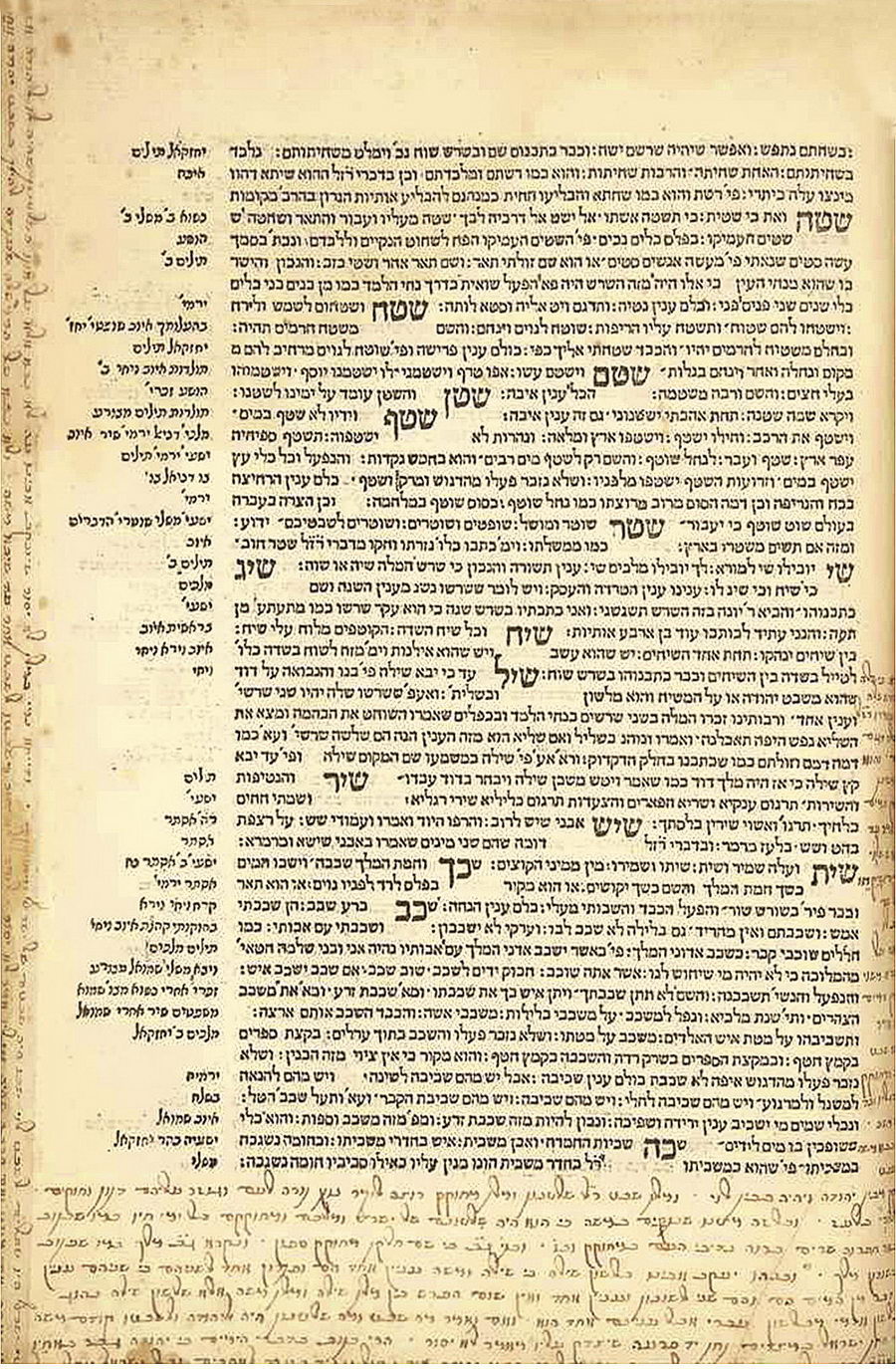
Исторические упущения
По иронии судьбы гневная отповедь ашкеназского автора была написана в самом конце эпохи величайшего возрождения древнееврейского языка и золотого века послебиблейской литературы на иврите. Бессмертные стихи Ибн‑Гвироля, Галеви и Моше Ибн‑Эзры появились благодаря тому, что эти великие и другие — из второго эшелона — поэты обогащали язык новыми словами и формами, не существовавшими в Библии. Они писали на религиозные и светские темы, и в творческом процессе самовыражения им помогали ученые: подводили базу под словесные эксперименты и оттачивали инструментарий.
Поэты и ученые не вполне осознавали свою революционную роль. Они считали, что лишь восстанавливают древнееврейский язык, пострадавший от разрушительного воздействия времени. В своей исторической наивности они были готовы повторить за Авраамом Ибн‑Эзрой: «[на заре истории] святой язык был самым богатым из всех языков, на которых говорили разные народы, потому что он был раньше их всех». Они верили, что иврит появился сам по себе волею Создателя во времена Адама и что первый человек знал его так же хорошо и даже лучше, чем любой из еврейских пророков и псалмопевцев. Предполагая, что в ходе истории все человечество, и еврейский народ в частности, лишь регрессирует, они и в изучении языка, как и во всех других областях, видели только упадок и полагали недостойным присваивать себе славу древних.
В этом свете не удивляет и амбивалентное отношение к языку Мишны и Талмуда. Наш византийский автор был не одинок, утверждая, что можно пользоваться заимствованиями из языка «древних мудрецов», хотя последний, конечно, служил очевидным «добавлением» к библейскому и в этом качестве тоже должен был подлежать запрету. Даже большинство караимов, хотя не признавали Устный Закон и отвергали «позорное» использование раббанитами «языка ассирийцев и арамейцев» (Ниси бен Нух), как мы помним, весьма прилежно изучали язык раввинистической литературы.
Тем не менее большинство исследователей склонны были четко разделять «язык мудрецов» и «язык Писания». Это было уже не просто эмпирическое наблюдение, как во времена возникновения этой теории в эпоху Талмуда, а важный критерий оценки словесного материала. И действительно, со времен Ибн‑Курайша к раввинистическому языку относились как к независимому, стоящему почти наравне с арамейским и арабским, и подобно им он считался лишь подспорьем для изучения языка Библии. Проницательным ученым того времени никогда не приходило в голову считать мишнаитский иврит новой формой того же языка и попытаться рассмотреть стадии его развития. Разумеется, предположение, что и библейский язык сам по себе в ходе истории тоже претерпел существенные изменения, для большинства рационалистически настроенных грамматистов звучало ересью. Ибн‑Эзра не хотел признавать, что квадратное письмо появилось относительно поздно. Он писал: название письма — ашурит — означает не ассирийское происхождение, но указывает на то, что это шрифт прямой и правильный . С некоторой непоследовательностью он отвергал предложенное рядом экзегетов объяснение термина ашурим (Берешит, 25:3): это не народ, а люди, знакомые с дорогами. Короче говоря, в те времена не было никаких признаков возникновения исторической грамматики языка иврит. Об этой дисциплине, которая даже в наш век исторического сознания все еще находится на ранней стадии развития, невозможно было даже помыслить в эпоху величайшего расцвета науки об иврите.
В духовной атмосфере той эпохи подобная историческая несостоятельность была вполне объяснима, в то же время она имела серьезные практические последствия. Когда Саадья готовил свое первое пособие в помощь ивритским поэтам, он без колебаний цитировал многочисленные постталмудические пиюты. Часто не вполне осведомленный об исторических фактах, он считал «древними поэтами», почти современниками мудрецов Талмуда, не только Йосе бен Йосе, но и Янная, Эльазара а‑Калира и менее известных Йеошуа и Пинхаса (Гаркави. Зихрон, V, 50 и далее, 105 и далее). Иногда он ссылался и на близких к нему по времени поэтов, если одобрял их иврит. Будучи практическим ученым, он без разбора черпал примеры из любых ивритских источников, даже современных ему, не осознавая, что грамматические правила, в соответствии с которыми строились эти тексты, в разное время сильно различались, а порой даже противоречили друг другу.

Со временем грамматисты стали понимать, что язык пиютов не вполне соответствовал грамматическим законам, которые они вывели на основании библейских исследований. Чем более систематической становилась еврейская наука о языке после Хаюджа, тем очевиднее казался разрыв между грамматикой Библии и пайтаним. Ученые XII века однако, не признавали хронологию и историческое развитие иврита и считали «неправильности» пайтанов отклонением от установившихся правил библейского языка. Моше и Авраам Ибн‑Эзра много рассуждали на эту тему и пользовались среди пуристов наибольшим влиянием. Моше Ибн‑Эзра, выдающийся теоретик и практик поэтического искусства на иврите, писал:
Ты можешь использовать те [слова и языковые формы], что найдешь в Писании, но то, чего ты там не найдешь, нельзя использовать в стихах, даже по аналогии. Иди тем путем, которым ведет тебя [библейский] язык, и останавливайся там, где он останавливается. Ты должен подражать ему, а не создавать новое; следуй за ним, но не опережай его. Как сказал один из мудрецов: «Надлежит идти вместе со стадом, потому что отставших овец схватит волк». Это касается и религиозных, и мирских дел. Есть и другое речение: «Грязные воды общества лучше чистых вод одного человека». И вправду, одно из самых неопровержимых доказательств [истины] — общее согласие людей или большинства из них, а также мудрецов.
Итак, наш поэт высказывался в пользу «общего согласия» (иджма) против индивидуальных аналогий (кийяс) и тем самым косвенно оспаривал фундаментальный метод языковой эволюции, который в арабской грамматике отстаивала басрийская школа. В то же время он отвергал принятое в куфийской школе свободное отношение к использованию других текстов, помимо освященных традицией Корана и доисламской арабской поэзии. В ивритской словесности это означало прежде всего нежелание использовать язык пайтанов, сохранивший остатки народного языка древней Земли Израиля. Отвергая и аномалистический, и аналогический подходы, Моше Ибн‑Эзра выступал за такую чистоту языка, которой не мог полностью придерживаться ни один поэт, в том числе и он сам. Его родственник Авраам заявлял: «У рабби Эльазара [а‑Калира] язык превратился в огромный город, лишенный стен, потому что он заменял мужской род на женский и наоборот».
На самом деле, ни один поэт не мог полностью отказаться от множества издавна существовавших поэтических и языковых клише. Тем не менее многие поколения еврейских грамматистов и поэтов, воспитанные в духе порицания Калира и его сподвижников, считали иврит своих предшественников примером упаднического языка, которому уважающий себя писатель подражать не должен. Возможно, именно из‑за пуризма Йеуда аль‑Харизи сокрушался по поводу плохого знания иврита среди восточных чтецов Писания. В XIII веке хазаны Ближнего Востока, согласно древней тенденции, не только читали принятые молитвы на традиционный или недавно придуманный мотив, но и обогащали службу литургическими композициями собственного сочинения. Вероятно, эти новые стихотворения, написанные в древнем стиле пайтанов, разгневали пуриста Аль‑Харизи и вызвали у него волну язвительных замечаний. Предубеждение по отношению к пайтанам усугубилось с возникновением в XIX веке реформистского течения в еврейской литургике и сохранилось до наших дней. Лишь в последнее время стали понимать, что иврит авторов раннего постталмудического периода имеет право на существование.

Языковой ренессанс

