Скупость сквозь призму философии, психоанализа, русской души и мировой литературы
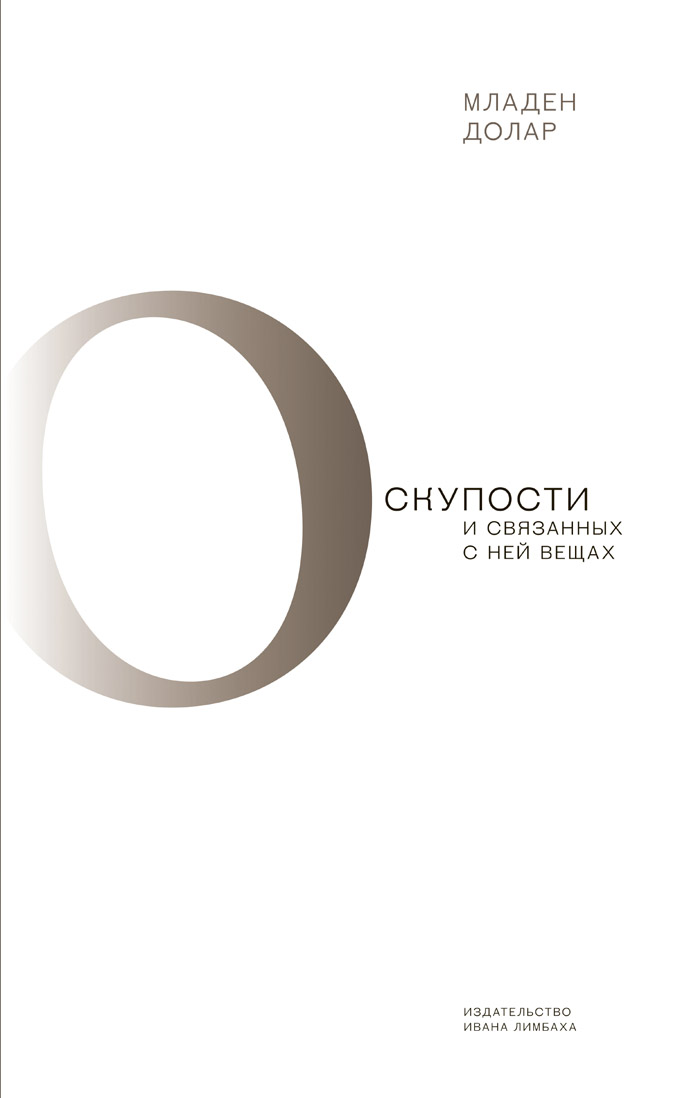
Младен Долар
О скупости и связанных с ней вещах
Перевод со словенского А. Красовец.
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021. — 440 с.
«Издательство Ивана Лимбаха» выпустило в свет русский перевод работы словенского философа Младена Долара «О скупости и связанных с ней вещах: тема и вариации». В этой книге сквозь призму психоанализа автор пишет историю скупости.
Младен Долар — философ, психоаналитик, кинокритик, теоретик культуры и музыки, один из основателей Люблянской школы психоанализа. Автор 14 книг и более чем 150 статей. Самая известная работа Долара — «Голос и ничего больше». На английском языке книга вышла в издательстве MIT Press в 2006 году, затем была переведена еще на девять языков, включая русский. Долар анализировал голос (как физическое, лингвистическое, историко‑философское и политическое явление) через четыре ключевые концепции психоанализа: бессознательное, повторение, перенос и влечение. Работа с этими понятиями продолжается автором и в книге «О скупости и связанных с ней вещах».
В первых главах Долар приводит высказывание Фрейда о том, что скупость выглядит как феномен без истории и времени, так же как и бессознательное. Однако сразу не соглашается с отцом психоанализа и выдвигает собственную гипотезу: скупость отнюдь не вневременной образ, а гибкое и легко поддающееся изменениям культурное явление. Объектом исследования Долара становится фигура скупца, которая «перестала демонстрировать себя в виде анахроничного образа подсчитывания золотых монет, истинной и вездесущей моделью скупца становится фигура намного более тривиальная и более повсеместно распространенная». Однако от нежелательного элемента в обществе до среднестатистического обывателя скупец прошел большой путь, который Долар описывает в книге.
Исследование скупости Долар ведет с анализа средневекового концепта семи смертных грехов, в ряду которых жадность (она же скупость, она же сребролюбие) занимает особое место. Философ приходит к выводу, что остальные шесть смертных грехов в сознании средневекового человека были пороками социально санкционированными, вспоминая литературных персонажей того времени, которые были изрядно наделены ими и при этом оставались симпатичны публике, в отличие от героя‑скупца.
Более глубокое понимание всеобщей ненависти к скупцам дает дихотомия жадности (avaritia) и милосердия (caritas), где первое является воплощением капитализма, а второе — христианского великодушия. «В средневековом переплетении экономики и религии каждому было кристально ясно, что капитализм — моральное прегрешение, что это смертный грех и что его примирение с христианством невозможно», — отмечает Долар. Прообразом капиталиста оказался еврей‑ростовщик, на которого накладывалась двойная стигматизация: традиционное отношение средневекового христианского мира к иудейству и навязанный род деятельности: «…евреям было запрещено владеть землей, у них также не было возможности заниматься рукоделием и ремеслами, так как все ремесленники были объединены в цеха, которые возникали как церковные братства и в которые у евреев не было доступа».
Трудно отрицать тот факт, что идеи капитализма были не чужды христианам. Несмотря на то, что католицизм долгое время препятствовал капиталистической экспансии, с зарождением протестантизма все изменилось. Христиане начали делать то, за что с древних времен осуждали иудеев. Однако отношение к еврейским предпринимателям от этого лучше не стало: «Двойной образ экономики имеет вес религиозной конфронтации: плохой капитализм — еврейское изобретение, он привязан к жестокому духу Ветхого Завета, хороший же капитализм основывается на caritas, на милосердии, словом, на Новом Завете».
Мировая литература полна образов, которые отражают противостояние еврейского и христианского капитализма. Долар обращается к фигурам бальзаковского Гобсека и Дервиля, пушкинского Соломона и Альбера из «Скупого рыцаря», шекспировского Шейлока и Антонио из «Венецианского купца».
Последняя пьеса была самым популярным произведением в фашистской Германии: в год прихода к власти Гитлера было сыграно 20 постановок по мотивам произведения, а вплоть до 1939‑го еще 30. Очевидно, что такая популярность пьесы была обусловлена антисемитскими настроениями в Германии, где противостояние еврейского и христианского стало важной частью идеологии национал‑социализма. Однако в Японии образ еврея‑скупца не был частью культурного бессознательного, поэтому в адаптации пьесы традиционным японским театром кабуки Шейлок был переименован в «Йокубари Гампачи», что переводится как «упрямый жмот». Долар приходит к выводу, что скупец как главный отрицательный архетип мировой литературы транскультурен: «…басни, анекдоты и образцовые рассказы о скупцах обильно кочевали из века в век и с легкостью переходили границы культур, нравов, пространств и времен». Тем не менее существовала фольклорная традиция приписывания качества скупости целым народам. В их числе были, между прочим, шотландцы, гореньцы (жители Гореньского региона Словении), каталонцы и другие.

Русское издание «О скупости и связанных с ней вещах» отличается от оригинальной версии, вышедшей в свет почти 20 лет назад. Важным дополнением стала последняя, 12‑я вариация под названием «Русская душа?». В ней Долар через архетипические образы скупцов в русской литературе прослеживает, как скупость «из мрачных подвалов поднялась на яркий свет общественного престижа и нормализовалась».
Первой для анализа выбрана пушкинская трагедия «Скупой рыцарь». Долар выделяет «домодерный» и стереотипизированный образ ростовщика Соломона. Но если героев Пушкина философ относит к категории bigger than life, то гоголевских персонажей из «Мертвых душ» рассматривает как образы smaller than life. Вторые, как более приземленные, становятся следующим этапом в трансформации образа скупца.
Далее на сцену выходят герои Достоевского, которых писатель создавал с опорой на пушкинские и гоголевские образы. Однако старуха‑процентщица становится новаторским олицетвориением скупости, поскольку она женщина. Доселе в литературе не встречались образы женщин‑скряг, женское начало было олицетворением caritas. По мнению Долара, именно «ввиду своей женской природы старуха‑процентщица была еще более бесполезна, принижена, ненавидима, как паразит, которого необходимо устранить и который никак не может являться препятствием для наполеоновских амбиций Раскольникова». Важными персонажами в русской галерее скупцов словенского философа также стали Остап Бендер и Александр Иванович Корейко. Первого автор окрестил воплощением Чичикова в период социализма, второго — «классическим скупцом, который сидит и ждет ни больше ни меньше, чем погибели социализма и возвращения капитализма».
Метафора русской души играет у Долара важную роль. «Существует ли русская душа, независимая от девиаций? Совместимы ли скупость и русская душа нараспашку?» — на эти вопросы он пытается ответить.
В целом книга перекликается с работой немецкого историка из Фрайбургского университета Фолькера Райнхардта под названием «Мои деньги! Моя душа!: Величайшие скряги и их истории» (Mein Geld! Meine Seele!: Die größten Geilzhälse und ihre Geschichten, 2009). Райнхардт, как и Долар, прослеживает, как на протяжении веков менялось отношение к деньгам. Стоит отметить, что труд Райнхардта был раскритикован рецензентом газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Кристофом Альбрехтом за то, что не содержит в себе анализа скупости с точки зрения психологии. Именно поэтому Альбрехт не рекомендовал покупать книгу Райнхардта, а дождаться бесплатной версии (ни намека на скупость, сугубо из практичных побуждений). В работе же Долара сочетаются глубокий психоанализ и литературный обзор, которые даже самого заядлого скупца не заставят пожалеть о покупке книги.

Jewgreek

Разборки с Гоголем


