Под низким небом Иерусалима
В Иерусалиме все низкое, даже небо. Погода здесь понятие не отвлеченное, она ни на секунду не дает о себе забыть, хоть и не является постоянной темой бесед, как в Нью‑Йорке, где каждый вечер новостная программа замирает, пока словоохотливые ведущие выпуска о погоде, вооружившись хитроумными графиками и схемами, не распишут во всех подробностях атмосферные условия. Если смотреть на жизнь как на процесс, более связанный с первопричинами, Иерусалим можно было бы назвать городом первопричин, таких, как любовь, война, смерть, пули, молоко, дети, газеты, хлеб, солнце, дождь, вода, дети, аварии на дорогах, дети, дети и еще раз дети. Вы видели, там всюду солдаты с оружием? — обычно спрашивают те, кто ни разу не был в Израиле. Но тут как‑то привыкаешь и к солдатам, и к автоматам, переброшенным через плечо запросто, словно обычный рюкзак. Непривычно другое: с какой гордостью израильтяне смотрят на свое подрастающее поколение, как неизменно снисходительно относятся ко всем ребяческим выходкам. За исключением одного случая подростковой жестокости (за несколько месяцев до моего приезда двое пятнадцатилетних парней из богатого пригорода Тель‑Авива ни за что ни про что убили таксиста, зловещая параллель с делом Леопольда и Леба ) — и даже несмотря на появляющиеся время от времени статьи о проблемах подростков (надпись на обложке еженедельника «Джерузалем репорт» от 10 марта гласит: «Не судите о ребенке по его коже», — и далее вам обещают раскрыть «всю правду о несправедливо порицаемой израильской молодежи»), — несмотря на все это, понятие «поколение Х» Израилю чуждо.
Я прилетела в эту страну с четырехлетней дочкой в конце февраля, в надежде вырваться хоть ненадолго из Нью‑Йорка с его суетой, в которую неминуемо втягиваешься, а еще — оказаться подальше от прежней жизни с ее судорожными драмами. Я не желала больше ничего знать про Тоню Хардинг и Нэнси Керриган (к моменту моего возвращения последняя уже пародировала саму себя, явившись в образе блондинки‑валькирии на передачу «Субботним вечером в эфире») и не хотела пока ничего предпринимать из‑за бракоразводного процесса, в который я ввязалась. Израиль манил, как чистый лист, — отчасти этим он всегда и привлекал. И когда я сидела в салоне «Транс уорлд эйрлайнз» в ожидании взлета, мне казалось, что я приняла правильное решение. Пока американские бортпроводники разъясняли, как пристегиваться, что делать в случае аварийной ситуации и про спасательные плоты — все это долго и чрезвычайно подробно, стюард, говоривший на иврите, ограничился несколькими краткими, чуть ли не ироничными инструкциями, словно намекая: «Вы знаете правила. Так придерживайтесь их, ладно, ребята?»
Ясным прохладным днем, в понедельник, мы приземлились в аэропорту Бен‑Гурион, где тележки напрокат — бесплатно, никакой возни с долларовыми купюрами и мучительными попытками просунуть их в некое устройство. Я приехала в Израиль отдохнуть, но это, вероятно, была моя главная ошибка. (Пусть простит меня министерство туризма Израиля, я желаю стране побольше гостей, которые оценят многосложный гостиничный завтрак — бесконечные шведские столы с селедкой, яичницей‑болтуньей, булочками, сыром всех сортов и таким разнообразием йогуртов, что невольно задумываешься об экономической целесообразности такого изобилия.) В первые несколько ночей после перелета я засыпала со снотворным, что вполне понятно: синдром смены часовых поясов, дорожные волнения — я ведь летела не одна, а с маленьким ребенком. Но это не объясняет, почему я продолжала принимать амбиен , белые безобидные таблетки, почти не дающие «похмельного синдрома», во все остальные дни в Израиле. Может, есть что‑то в здешнем воздухе — чувство настороженности, проникающее в нервную систему всех и каждого, за исключением особо толстокожих иностранцев, — поэтому так трудно здесь расслабиться и забыться сном после суматошных дневных забот. «В Израиле не отдохнешь, — заметила одна приятельница, которой я пожаловалась по телефону, предчувствуя вторую бессонную ночь. — Здесь слишком неспокойно». В первые несколько дней лил дождь, а на пятый, в пятницу, — мусульмане как раз готовились отмечать Рамадан, а евреи, так уж совпало, праздновали Пурим — Барух Гольдштейн (он же Бенджамин, а для друзей просто Бенджи), в одиночку или с сообщниками — неизвестно, выпустил автоматную очередь по арабам, собравшимся для молитвы в Меарат а‑Махпела (Пещере патриархов) в Хевроне.

Новости в Израиле распространяются со скоростью звука, официальные сводки отстают от слухов даже сильнее, чем в крупных и менее взрывоопасных странах. Врач тридцати девяти лет начал стрельбу в полшестого утра. А уже в четверть девятого мой племянник, который учится в религиозном высшем учебном заведении в Эфрате — поселении на Западном берегу реки Иордан, основанном лет десять назад на полпути между Хевроном и Израилем , — стоял в кухне в доме моей сестры, где я остановилась, и рассказывал ужасные новости. Первоначально называли большее число погибших (сорок, а не двадцать девять, как оказалось), и — что еще более странно — якобы Гольдштейн покончил с собой, завершив этим безумным жертвенным поступком кровавое побоище. Вероятно, вторая новость, как оказалось неверная, объяснялась стремлением выдать желаемое за действительное, представить чудовищный поступок чем‑то вроде самопожертвования, пусть ложно направленного. Но чем бы ни объяснялся этот случай, то, что последствия будут серьезными, было понятно с самого начала. Израиль как‑никак еврейская страна, а впечатлительным евреям свойственно обостренное предчувствие беды. Как это повлияет на едва начавшийся, еще крайне хрупкий процесс мирного урегулирования? Как радикальная палестинская группировка «Хамас», набирающая все больше веса, хоть Арафат и пытается представить себя единственным выразителем народной воли, может использовать эту бойню, устроенную стрелком‑одиночкой? И вообще, что подумают соседи?
За окном сестринской квартиры щебетали птички, улица — как множество других в Иерусалиме: белье на веревках, мусорные баки, бродячие кошки, и все окрашено в цвет желтого камня. В Тель‑Авиве почти сплошь бетон, не вызывающий никаких ассоциаций, разве что с картонной подложкой в рубашках из прачечной, а здесь этот желтый камень (ценность которого варьирует в зависимости от оттенков: розоватого, беловатого, бежевого) — из него, и только из него, предписывалось строить Иерусалим начиная с 1948 года. Приехавший на очередную конференцию румынский архитектор, с которым я познакомилась за ланчем в столовой Ассоциации молодых христиан, что напротив отеля «Царь Давид», — столовая, кстати, не казенный тесный зальчик, а просторное, с окнами от пола до потолка, помещение для ценителей красоты, не соблюдающих кашрут, — полагает, что в этом иерусалимском камне есть нечто такое, что по‑разному преломляет свет. (Он примыкает к противникам новой гражданской инициативы, выступающей за использование в строительстве самых разных материалов.) Если у вас в памяти запечатлится Израиль, если вы вынесете за скобки кучи досадных неудобств, от грубой туалетной бумаги до всесильного «Безека» — государственной телефонной компании, сотрудники которой периодически бастуют или путают номера, так что вы не можете подтвердить авиарейс в страну или обратно, — то лично мне кажется, что рано или поздно в памяти останется именно этот цвет желтых камней. Он засядет внутри, как боль, и трудно будет вычеркнуть эту страну из жизни как спорный и противоречивый мираж, иначе именуемый еврейской родиной.

Буквально в считанные минуты после кровавой бойни поднялся шквал взаимных обвинений и упреков. Кого винить? И за что? Американцев — за то, что породили это странное племя, «нета зар», — именно так презрительно выразился Рабин , указывая на вредоносных иммигрантов с их безумной приверженностью идеям Меира Кахане и ему подобных, которых хронически нуждающаяся в людских ресурсах страна, вроде Израиля, вынуждена принимать — и даже с распростертыми объятьями! А может, правительство, за то, что оставляло поселенцам надежду, будто их экспансионистские мечты имеют хоть какую‑то связь с реальностью?.. А может, виноват сам Шимон Перес , в том, что проводил приспособленческую, возможно саморазрушительную, мирную политику — и в процессе этого лишь раззадорил тех, кому не терпелось доказать, что он неправ.
Амос Оз, Синтия Озик и Абрам Розенталь затеяли спор в «Нью‑Йорк таймс», высказывая прямо противоположные мнения: кто утверждал, что Израиль ведет себя слишком агрессивно, кто, наоборот, что евреи слишком уж винят себя. Тем временем израильские обозреватели исследовали трагедию под микроскопом, подвергая тщательному анализу взрывоопасное сочетание неукоснительного соблюдения библейских заповедей и национализма, приведшее к появлению малочисленного движения «Ках», членом которого был Гольдштейн, с теологией мстительного толка. Авиезер Равицки, преподаватель еврейской философии Еврейского университета в Иерусалиме, в своей статье в «Джерузалем пост» предположил, что в любом обществе и в любой религиозной конфессии — в том числе и в ортодоксальном иудаизме — всегда будут группы маргиналов, которые не могут идентифицировать себя иначе, как демонизируя «других»: «Если у меня есть враг, тогда я знаю, кто я. Я не похож на “другого”. Я лучше “другого”». Далее Равицки, досконально изучив высказывания фанатичного Меира Кахане и его последователей, которые призывали изгнать арабов из Израиля, объясняет: «Не нужно знать иудаизм, чтобы понять каханизм. Каханизм — это еврейский вариант явления, распространенного во всем мире». А некий израильский преподаватель еврейской истории, уютно угнездившийся в Международном научном центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне, в интервью в вечерних новостях с важным видом предположил, что корни конфронтационной политики Кахане — в городских стычках еврейской молодежи из пролетарской среды с «афроамериканцами». Слушая его, я думала, многим ли израильским телезрителям будет понятна модная в последнее время гневная риторика или столь же модный термин «афроамериканцы». Но так или иначе, ясно одно: политкорректность дотянулась и накрыла своей тенью солнечные рощи израильской университетской науки.
«Левым быть модно», — говорит Нафтали Лави, бывший генеральный консул Израиля в Нью‑Йорке и ближайший помощник Шимона Переса с 1974 по 1977 год. Лави, младший брат которого — главный раввин Израиля, фигура противоречивая, недавно опубликовал воспоминания, очень тепло встреченные публикой, о том, как бежал от нацистов и как потом был советником лиц, стоявших у кормила власти, — от Даяна до Бегина и Переса. В самом названии — «Ам КеЛави» («Нация, как лев») — остроумно обыгрывается его собственная фамилия, в книге есть также любопытная история о том, как король Хусейн в 1973 году встретился с премьер‑министром Голдой Меир за одиннадцать дней до начала четвертой арабо‑израильской войны, чтобы предупредить ее о готовящемся нападении со стороны Сирии и Египта. Мы сидим с Лави в гостиной, и его супруга Джоан, родом из Великобритании, угощает нас кофе и свежеиспеченным пирогом. «Дать арабам то, что они хотят, — говорит Лави. — Это иллюзия. Те арабы, которые участвуют в мирном процессе, не в состоянии обеспечить мир». Он произносит слова чуть усталой скороговоркой, как человек, привыкший иметь дело с американскими филантропами‑всезнайками. «Те, кто ведет за собой массы, — религиозные фанатики… Их шантажируют экстремисты, главный представитель которых — «Хамас». По религиозным или националистическим причинам мирный процесс для них неприемлем… Мы, евреи, помогаем арабам использовать эту бойню в их же интересах… Евреи проявляют слабость, стараясь угодить всему миру».
Теодор Герцль в 1897 году организовал Всемирный сионистский конгресс в Базеле, в тихом зеленом уголке Швейцарии. Кто знает, как могла бы сложиться история еврейской государственности, если бы первые сионисты несколько лет спустя приняли предложение британцев сделать еврейским домом Уганду, а не цеплялись так за раздираемый распрями, иссушенный солнцем клочок ближневосточной земли под названием Палестина?
На следующий день после бойни, в субботу, ближе к вечеру, я иду в гости к своему дяде Мордехаю Бройеру. Дядя мой занимается историей германо‑еврейской культуры и живет в зеленом, типично иерусалимском районе Рехавия. Есть нечто в самом районе и в дядиной квартире, что дает ощущение безмятежности и неизменности. Рехавия была основана иммигрантами, выходцами из Центральной Европы и Германии, в конце двадцатых — начале тридцатых годов (между прочим, здесь жил философ Гершом Шолем ). Архитектура многих зданий в этом районе навеяна стилем Баухауз , и в них до сих пор по большей части живут престарелые уроженцы таких гордых городов, как Франкфурт или Прага, в них куда меньше левантийского, чем у остальных групп иммигрантов, наводнивших Израиль после Второй мировой войны. Чтобы лучше понять социальный статус таких районов, как Рехавия, — на каждом шагу цветы в маленьких жардиньерках, в воздухе разливаются волны классической музыки, в том числе и некогда запретного Рихарда Вагнера, — вероятно, нужно быть знакомым с творчеством израильского писателя, лауреата Нобелевской премии Шмуэля‑Йосефа Агнона. Здесь все напоминает о тех временах в истории города, когда общество было более космополитичным, менее поляризованным, когда светское и духовное сосуществовали в относительной гармонии, а люди, как строго, так и не слишком строго соблюдавшие обряды, жили бок о бок, а не отгородившись друг от друга. По размерам квартира моего дяди почти как небольшая трехкомнатная в Нью‑Йорке. Они с женой вырастили здесь семерых детей (а те все вместе подарили ему пятьдесят восемь внуков), и мне кажется, квартира всегда была примерно такой, как сейчас, когда они живут в ней вдвоем: безупречный порядок и чистота, но обстановка более чем простая, главная роскошь — отсутствие декоративных излишеств.
Вскоре после моего прихода дядя спешно уходит в синагогу на минху , которой завершается шабат, а я коротаю время в разговорах с тетей. Вернувшись, он исполняет ритуал авдалы. Это один из самых кратких ритуалов в иудаизме — когда благословляют огонь свечи, вино и ароматные звездочки гвоздики — символически отделяет субботу, день отдыха, от наступающих трудовых будней. Потом мы садимся поговорить, но наша беседа то и дело прерывается — трезвонит телефон: дядю спешат поздравить с рождением очередного внука — у его младшей дочери это уже десятый ребенок.
Я спрашиваю дядю, что он думает о недавнем кровавом событии, он горестно пожимает плечами. Что касается резкого высказывания Рабина, дядя считает, что слишком просто обвинить американское еврейское сообщество в том, что оно сплавляет сюда отщепенцев, вроде Гольдштейна и Меира Кахане. И все же он признает, что сочетание жестокости и образованности — характерное для многих последователей Кахане — у израильских противников мирного процесса встречается редко. «Разумеется, у нас есть свои отморозки, — говорит он, — но это обычно люди примитивные, из бедных или некультурных семей. А тут такой человек, врач… — Он качает головой. А потом смеется и начинает рассказывать, как удачно избежал в синагоге встречи с человеком, который не одобряет участия дяди в «Оз Ве Шалом» — религиозной группе движения за мир. Мой дядя уверен, что этот человек хотел вовлечь его в спор по поводу выходки Гольдштейна.
На другой день снова зарядил дождь. По непостижимым календарным причинам Пурим официально празднуется в Тель‑Авиве в пятницу, а в Иерусалиме — в воскресенье . Обычай предписывает, чтобы традиционная трапеза в Пурим — сеуда — начиналась после полудня, так что поздним утром я с дочкой и несколькими американскими знакомыми рискнула отправиться в центр города. Ежегодные предпраздничные мероприятия, предшествующие Пуриму, — трехдневная уличная ярмарка с клоунами, раскрашиванием лиц, сахарной ватой и надувными шариками — проходили на этот раз менее буйно. А сегодня многие галереи и бутики в богемном квартале Нахалат Шива, где продают керамику, ювелирные изделия и серебро, — что‑то вроде иерусалимского Сохо — закрыты, а те, что работают, пугающе пусты, и один владелец киоска говорит мне, что о бизнесе на эту часть года придется забыть. В такси по пути домой я решаюсь провести спонтанный опрос — что думают простые израильтяне — в отличие от интеллигенции — о поступке Гольдштейна. Водитель такси, родом из Йемена, кажется, удивлен моей попыткой вовлечь его в серьезный разговор о событиях, к которым никто из нас лично не имеет отношения. «Неплохо владеешь ивритом, — замечает он. — Тебе нравится Израиль?» Ему хочется поговорить про Квинс, где он прожил год, но я не отступаюсь, и он произносит тихо, пожимая плечами, — мне уже кажется, что это какой‑то национальный тик: «Ийе беседер». «Беседер» — это на иврите все равно что «окей» или «ладно», но чуть более категоричное: «так уж и быть». И продолжает: «Они убивают нас, а иногда мы убиваем их».
Но когда было иначе? «Дух ненависти и фанатизма, укоренившийся [sic!] в сердце арабов‑мусульман и направленный против всего немусульманского, постоянно подпитывается исламской религией». Это фраза из письма, адресованного французскому премьер‑министру Леону Блюму в 1936 году и подписанного в том числе Сулейманом аль‑Асадом, отцом нынешнего президента Сирии . Далее в этом письме говорится: «Нет никакой надежды, что ситуация когда‑либо изменится». Авторы данного документа, шесть видных представителей алавитского сообщества — отколовшейся от ислама группы , проживающей на северо‑востоке Сирии, — приводили в пример ситуацию с палестинскими евреями как «самое веское и наглядное доказательство» мусульманской непримиримости.
Нафтали Лави считает, что перед лицом такого стойкого, исторически сложившегося антагонизма все задают не те вопросы, что нужно. «Следует ли эвакуировать поселения, чтобы добиться мира?» — не так существенен, как вопрос: «Способен ли Арафат добиться мира, если он не может добиться даже обещанной отмены восьмой статьи программы ООП , где черным по белому написано, что цель этой организации — уничтожение Государства Израиль?
Но в Эйлат мы все равно поехали. В Израиле считается, что истосковавшимся по солнцу европейским отпускникам куда и ехать, как не в Эйлат, их претензию на настоящий морской курорт. Почти тридцать лет я езжу в Израиль, но побывать в Эйлате так и не соизволила — в свете моего сионистского воспитания меня больше интересовали знаковые историко‑культурные места: Масада, гробница Рахили, Эйн‑Геди, ну и, конечно, пока мир еще не слышал об интифаде , Пещера патриархов. На этот раз я решила пожить на этом курорте: буду вести себя так, словно Израиль — страна, где и впрямь можно отдохнуть в свое удовольствие, и никакой Барух Гольдштейн меня не остановит, говорила я себе, хоть и не очень уверенно.
В понедельник днем в половине четвертого вся наша компания — моя сестра, ее пятнадцатилетняя дочь (которая ради этого отпросилась из школы), я и моя дочка — отправилась на центральный автовокзал искать микроавтобус, который подбросит нас до Атарота , — это аэропорт в получасе езды от Иерусалима, обслуживающий рейсы «Аркии» — единственного местного внутреннего авиаперевозчика. (На машине до Эйлата из Иерусалима добираться пять часов, так что мы решили сэкономить время на перелете.) В салоне микроавтобуса шторки задернуты. «Израильтяне любят занавесочки», — улыбнулась моя сестра, но они тут не ради красоты. Когда моя дочка пытается отодвинуть шторку, сидящий рядом с водителем смуглый мужчина резко оборачивается к ней и строго говорит: нельзя. Я заметила этого человека, еще когда садилась в машину, обратила внимание и на взволнованную женщину перед нами — та с беспокойством поглядывала на оставленный кем‑то багаж на соседнем сиденье и просила проверить, что там. (Проверили, все обошлось.) Пластиковые пакеты и прочие невинные с виду бесхозные предметы — ахиллесова пята Израиля: а вдруг там искусно замаскированное смертельное оружие, а вовсе не продукты или туалетные принадлежности? В первые дни после бойни в пещере, как и всегда после очередной вспышки насилия, атмосфера подозрительности сгущается, велика вероятность — хоть об этом и не говорят вслух, — ответного удара со стороны террористов. (Через месяц после того, как я вернулась в Нью‑Йорк, арабский смертник девятнадцати лет подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в Афуле, городе в северной части Израиля. Семеро израильтян погибли, еще сорок пять, в том числе дети, получили ранения. «Хамас» сразу же взял ответственность на себя и заявил, что это ответ на Хеврон.)
По пути в аэропорт мы проезжаем мимо арабского поселения Шуафат. Сквозь щели в шторках — ветхие здания, людей почти не видно, кое‑где у дверей группами стоят мужчины, мальчишки в бесформенных свитерах с нескрываемой враждебностью смотрят на номерной знак нашей машины — израильский. В микроавтобусе все затаили дыхание: только бы пронесло. (Несколько дней спустя, уже на обратном пути в Иерусалим, снова такой же момент: переводя дух, понимаешь, что тебе посчастливилось миновать вражескую территорию и остаться целым‑невредимым. Мы возвращаемся поздно вечером, приземистые арабские дома окутаны зловещим бледно‑голубым сиянием. Сестра говорит, что слышала, будто у арабов хотя бы одна стена в доме должна быть выкрашена в бирюзовый цвет — от дурного глаза, и вообще они предпочитают такое слегка меланхолическое освещение.)
Атарот — маленький, по размерам примерно как аэропорт на острове Нантакет . Но поскольку это еврейская страна, а не перевалочный пункт для англосаксов, наготове киоск с едой (шоколадные батончики, газировка и мороженое, а также типично израильский сэндвич под названием «шакшука» — пита с начинкой из яичницы, лука и помидоров) — достаточно, чтобы не мучиться от голода в те пятьдесят минут, что займет полет до Эйлата. После проверки паспортов и багажа и ответов на шквал вопросов службы безопасности («Вы оставляли багаж без присмотра?», «Вам давали что‑нибудь провезти в багаже?», «Вы понимаете, почему мы об этом спрашиваем?») я решаюсь поговорить с Эли, охранником, который сопровождал нашего водителя, а теперь ждет возле аэропорта, попыхивая сигаретой. Я спрашиваю: он сопровождает микроавтобусы всегда или в связи с Хевроном приняты особые меры предосторожности? Он отвечает ослепительной щербатой улыбкой, вежливо давая понять, что не готов обсуждать эту ситуацию. Странно, но в такой неспокойной стране, как Израиль, все старательно делают вид, будто тревога им нипочем и вообще все в норме. К Эли подходит Ицик, водитель, и, молча переглянувшись, мужчины, видимо, решают, что мне можно доверять. Они ведут меня к парковке, показывают вмятины на корпусе микроавтобуса и разбитое зеркало заднего вида. «Только мальчишки бросаются камнями, — говорит Эли, словно извиняясь. — Взрослые — никогда». Когда я спрашиваю, как и когда они определят, что ситуация успокоилась — что израильские машины могут спокойно проезжать по арабским территориям, — Эли отвечает: «Леорах а‑иньян».
«Леорах а‑иньян»: когда будет нужно. В Эли есть что‑то чрезвычайно успокаивающее. Может, эта его манера держаться, не демонстративно мужественная, но все же сугубо мужская, а может, нечто более неуловимое во внешности — лучистый взгляд, орлиный профиль, чем‑то напомнивший мне Омара Шарифа. В любом случае, я не указала ему, что такой ответ — типичная тавтология: ситуация не потребует этого, когда ситуация этого не потребует. Мне кажется, в тавтологиях есть своя логика вроде дзен‑буддистской, дающая утешение от пассивного принятия судьбы, столь же непознаваемой, сколь неизбежной: мир наступит, когда война окончится.
Если бы Ближний Восток был декорацией для фильма, мне бы хотелось, чтобы в нем нашлась роль для какого‑нибудь обаятельного, обладающего знаниями разных культур израильтянина, вроде Эли, который все повторяет, мило коверкая синтаксис: «Чему поможет она, война?» И опять же, если бы Ближний Восток был сценической площадкой, то Эйлат идеально смотрелся бы как слабое подражание тропическому раю, с немного зловещими деталями в духе Грэма Грина (охранники, маячащие у входа в гостиницу, чтобы проверить ваши ключи) и устаревшим, чуть пошловатым представлением о роскоши. Представьте Майами‑Бич еще до того, как он преобразился, или какой‑нибудь третьестепенный карибский остров. Удивительно, что Эйлат вообще существует: полоса прибрежных отелей, где у бассейна подают щедрые порции спиртного с болтающимися в стакане крошечными зонтиками и самых опрометчивых завлекают в таймшеры.
«Здесь начинается ваш отпуск, — такой приветственной надписью встречает гостей Эйлатский аэропорт. — Наслаждайтесь». Ох, наконец‑то я смогу расслабиться, сделать маникюр в салоне при гостинице (не важно, что мне радушно назначили время, а когда я явилась, выяснилось, что маникюрши в заведении уже полгода как нет), посмотреть телевизор (не важно, что кабельное телевидение до Эйлата еще не дотянулось, а единственное, что антенна принимала без помех, — канал с рекламой отеля), принять горячую ванну или постоять под душем (не важно, что вода чуть теплая, а напор варьирует от слабого до никакого), и полакомиться в «Brasserie», кошерном французском ресторане, где булочки без каких‑либо прикрас аттестуют как «черные» и «белые», что не лишено логики, а о бездрожжевом хлебе или о «семи злаках» остается только мечтать. Шеф‑повар — некий Манфред Гановер из Германии, женатый на израильтянке. Вот он, в белом фартуке и колпаке, подходит к нашему столику и начинает оживленно обсуждать с моей сестрой, как лихо нынешние повара‑новаторы расширяют границы кошерной кухни, по правилам которой нельзя смешивать молоко и мясо, а также их производные, нахваливая при этом безмолочные сливки «Рич» — американский соевый продукт, который появился на здешнем рынке лишь в прошлом году.
Мой номер в «Царе Соломоне» (формально это пятизвездочный отель — точнее, как мне кажется, пятизвездочный отель в представлении кибуцника, — считался лучшим в Эйлате, пока его не затмила стоящая на отшибе и недооцененная «Принцесса») смотрит на «Холидей Инн», пронзая ночь зелеными неоновыми лучами ивритских букв. Зеленые огни, таинственно манящие или аляповато‑кричащие, напоминают мне о Гэтсби , но Гэтсби уж точно остановился бы в «Принцессе» — снобистской, со стенами сплошь из стекла, белоснежной на фоне красноватых идумейских гор. Проходя мимо бесспорно элегантного вестибюля этого отеля, поглядывая на все эти бассейны и солярии, джакузи и водяные горки, причудливо соединенные мостиками в венецианском стиле, я начинаю понимать, что значит calme, luxe et volupté . Но, быть может, такие дворцы сплошного удовольствия противоречат самому духу Эйлата. Ведь, по слухам, в «Принцессе» персонал неприветливый и менеджмент плохой, а поскольку цены там кусаются (обычный номер — 350 долларов за ночь, а за более роскошное размещение просят до 900), неудивительно, что там тихо и почти пусто в сравнении с нашим популярным «Царем Соломоном», куда приезжают по пакетным турам, и у бассейна в десять утра уже не найдешь свободного шезлонга. Когда мы вытаскиваем несколько пустующих кресел из вестибюля на солнышко — самообслуживание здесь, похоже, в порядке вещей, — моя сестра, живущая в Иерусалиме уже восемь лет, с ностальгией вспоминает золотые дни Табы и отеля «Сонеста» с его небрежным шиком. Таба, спорный участок территории возле самой южной части Эйлата, буквально в шаговом расстоянии и от Иордании (летняя резиденция короля Хусейна находится в Акабе, примыкающей к Эйлату с востока), и от Египта, в конце концов, после международного разбирательства, была возвращена Египту в конце восьмидесятых.
В бассейне устроили соревнования, гремит музыка — атмосфера истошного праздника, не хуже, чем в Поконо . Дочь не хочет без меня входить в воду (на поверхности, похоже, плавает мутная пленка). За территорией гостиницы — официальные туристические приманки: «Желтая подводная лодка» — за двадцать пять долларов в местной валюте можно спуститься в глубины Красного моря и увидеть коралловые рифы (в естественном состоянии они оказываются серо‑коричневыми) и подводная обсерватория, где можно посмотреть на проплывающих мимо рыб. Одна рыбка словно в полосатом свитере, другая, как замечает моя племянница, — вылитый Ясир Арафат, с развевающейся куфией (его знаменитым головным убором) вместо плавника. Даже несильный звуковой удар в подводном кафе, куда мы заходим перекусить (взяли кока‑колу с каким‑то приторным шоколадным пирожным) вызывает у посетителей мгновенный испуг. И трудно пропустить мимо ушей негодующие вопли немки, которую охрана остановила на променаде возле «Царя Соломона»: кто может засвидетельствовать ее личность? Да все они уже в гостинице! Но несмотря на это, Эйлат дает временную передышку от иерусалимской бдительности, постоянной и неусыпной, настолько вошедшей в привычку, что ее почти не замечаешь. Кому‑то это покажется невероятным, особенно на общем кровавом фоне Ближнего Востока, но Эйлат — это место, где снуют французские, немецкие, голландские туристы, приехавшие сюда ради загара и удачных покупок. И это лишний раз доказывает, что, несмотря на кровь и тревогу, страна продолжает жить обычной жизнью, завозя брелки из Китая и низкопробные телешоу — из Америки.
Но порой хочется пожелать ей меньшей обычности, меньшей заурядности, во всяком случае поменьше культурного мусора, который продвинутая западная цивилизация разбрасывает на своем пути вперед. Чтобы гламурные виды развлечений не так быстро усваивались этой истерзанной войной нацией, а каждый раз, приезжая сюда, я вижу, что Израиль успешно все перенимает. В этой стране популярные американские телесериалы: «Династия», «Даллас», «Закон Лос‑Анджелеса», «Беверли‑Хиллз, 90210» — всегда были идеальной отдушиной, позволяющей ее слишком озабоченным гражданам снять напряжение. Однако с появлением кабельного телевидения и, чуть позже, нового канала с местными программами израильским зрителям есть из чего выбирать. Ток‑шоу на пике популярности: наивысший рейтинг у Дана Шилона , он намеренно подбирает крайне пестрый состав гостей (Нафтали Лави говорит, что однажды участвовал в этой передаче на пару с каким‑то мелким преступником) — я бы сказала, израильский Чарли Роуз и Арсенио Холл в одном флаконе, с добавлением местечковой эпатажности. Когда я вернулась из Эйлата в Иерусалим, всю неделю транслировали конкурс красоты «Мисс Израиль», вместе с двумя племянницами, родившимися в США, я смотрела на участниц и удивлялась: какие дряблые, рыхлые бедра у многих из них! Так же поразила меня и оголтелость рекламы, которую показывают по израильскому телевидению. Рекламные ролики наивно‑прямолинейны — как в рекламе дезодоранта для полости рта «Асута», где понятие «дыхание дракона» воспроизводится буквально, и полуголые пышнотелые актрисы падают в обморок от ужаса.
Ожидание вызова возможно теперь и в Израиле (хотя это не слишком радужная перспектива в стране, где вам спокойно могут позвонить и до семи утра), а рядом с отелем «Иерусалим‑Плаза» круглосуточно открыт супермаркет. Кафе‑мороженое «Бен и Джерри» в новом иерусалимском многоэтажном торговом комплексе, рядом с футбольным стадионом, напротив Библейского зоопарка, — полностью, вплоть до салфеток, точная копия его американских аналогов, разве что надписи на иврите. Субботним вечером мы заглянули сюда поесть мороженого, и пока мои племянники и племянницы подкладывают все новые шарики любимого ванильно‑шоколадного, я наблюдаю за группой иерусалимских старшеклассников: девочки — с длинными волосами, в одинаковых сандалиях на платформе, у мальчиков — стрижка ежиком, серьга в ухе. Они самозабвенно танцуют возле музыкального автомата под шлягеры трех‑пятилетней давности — Мит Лоуф, Джо Кокер. «Они что, думают, здесь дискотека?» — возмущается младшая племянница. Очевидно, «дискотека» здесь по‑прежнему символ чего‑то гламурного, рискового и очень американского, и у меня возникает такое ощущение, будто я перенеслась назад во времени и что израильская поп‑культура — этакая бойкая младшая сестрица, которая вечно ходит хвостом за старшей и копирует все то, от чего та уже с презрением отказалась.
Это ощущение еще усиливается, когда я на день нанимаю такси до Тель‑Авива. Считается, что Тель‑Авив — город богемы, по крайней мере его предпочитают люди прогрессивно мыслящие, утонченные, но, на мой взгляд, это город столь же космополитичный, сколь и подражательный. Я хотела повидаться с одной своей знакомой, писательницей Идой Финк , и мы договорились встретиться днем в кафе национального театра «Габима» . Ида — автор двух суровых и серьезных книг о том, как ей удалось спастись от Холокоста, — одна из них, «Осколок времени», была удостоена израильской премии Анны Франк. Прошла почти неделя со дня бойни, и о чем бы мы ни говорили — как непросто живется писателям, и правда ли, что в Израиле есть литературная мафия, как уверяет один прозаик, — главная тема, которая вновь и вновь возникает в разговорах, — бойня. Как и большинство живущих здесь писателей, Финк не питает особых симпатий к фундаменталистам, ни в исламе, ни в иудаизме, она атеистка до мозга костей и не приемлет политики, апеллирующей к историческим реалиям.
Главное отличие между Иерусалимом и Тель‑Авивом в том, что если в первом из этих городов по поводу текущего конфликта преобладает такая точка зрения, что нужно быть пожестче с арабами, то в последнем — наоборот, что нужно быть пожестче с евреями. Куда бы я ни пошла в Иерусалиме, я всюду сталкивалась с неоконсервативным, если можно так сказать, отношением к кровавому побоищу: это позиция самозащиты, которую демонстрируют в основном израильские религиозные группы и сефарды. «Все молчат, когда арабы убивают евреев. Они не перестанут нас убивать. Разве ООП публично извинилась хоть за один террористический акт? Разве кто‑нибудь из ее лидеров выступил с заявлением, извиняясь от имени своего народа, как это сделал Рабин в их газетах?»
В Тель‑Авиве, где на ближайшую субботу движение «Мир сейчас» запланировало очередной митинг, преобладает мнение: мол, мы сами виноваты, — чего и следовало ожидать от израильских левых — атеистов, ученых и представителей творческих профессий. Подобная позиция ориентирована на иностранную прессу (действительно, за рубежом она воспринимается лучше, чем в собственной стране), и любому — неважно, еврей он или нет, — претит сама мысль, что народ Книги освоил науку войны в ее некнижном варианте. «Посмотрите, до чего мы дошли и что наделали, безумно капитулируя перед религиозными фанатиками, которые не хотят мира с арабами. Как можем мы выражать протест против вражеских террористических атак, если не можем сдерживать своих поселенцев? Нужно объявить траур, а потом вышвырнуть поселенцев».
Но быть в Тель‑Авиве — и именно из‑за этой своей особенности, думается, он как‑то спокойнее Иерусалима — значит забыть о состоянии души страны в желании шикануть. Например, заглянуть в «Александер» , куда приходят не только поесть, но и себя показать. Мне говорили, в пятницу на ланч в «Александер» невозможно попасть, если ты не завсегдатай. В этом ресторане может не оказаться перцемолок, зато есть газетницы у входа, а в уборных такой хитроумный дизайн — не сразу догадаешься, что вот эта педаль на полу и есть смыв. За столиком позади нас группа по‑манхэттенски худых женщин и несколько мужчин — ни дать ни взять вариации Жана‑Пьера Лео из «Четырехсот ударов» — оживленно обсуждают кино. Они там снимались? Или сами снимали? А может, просто смотрели? Спилберг побывал здесь во время шумихи перед премьерным показом «Списка Шиндлера». В одном из множества интервью для израильской прессы знаменитый режиссер с грустью признался, что песня «Золотой Иерусалим», которой заканчивается американская версия фильма, вызвала нежелательные ассоциации у израильских зрителей (для них это навязший в зубах гимн), и пришлось заменить ее более подходящей случаю элегичной «Эли, Эли» . И хотя самого Спилберга, новую еврейскую знаменитость, встречали в Израиле очень тепло, к фильму его отнеслись более сдержанно — в основном из‑за моментов, которые здесь сочли сентиментальными и недостоверными.

Бывает такое, что уезжаешь на пару недель, а вернувшись, замечаешь, что напрочь выключена из прежней реальности. Я вернулась домой и забыла про церемонию «Оскар», включила телевизор лишь на середине, а ведь раньше я неделями с нетерпением ждала начала трансляции. Когда я была в гостях у брата в Энглвуде (Нью‑Джерси), за общим столом обсуждали недавнюю новость: Луис Фаррахан и Халид Абдул Мухаммед открыто заявили о своем антисемитизме. Мы обсуждали, почему нас, евреев, родившихся после Второй мировой войны, подобные расистские выпады потрясают так, как не потрясли бы наших предшественников: мы росли после Холокоста — в период доброй воли, а он, похоже, подходит к концу. Я слушала и удивлялась про себя, почему создание Государства Израиль, даже через пятьдесят без малого лет, не слишком сильно изменило географию еврейского самосознания — по крайней мере для евреев вроде моего брата и его товарищей, предпочитающих жить в кварталах, населенных ортодоксами. Неужели американский уют привлекательнее, чем заманчивая перспектива жизни среди своих в далекой, небезопасной стране? Почему считается, что еврею в нееврейской стране жить спокойнее, чем в еврейском государстве, пусть и окруженном врагами?
Я побывала на двух пасхальных седерах, и в конце трапезы мы повторили дружно, как каждый год: «На следующий год в Иерусалиме» — словно Израиль все еще Палестина и вся страна не больше чем мираж.
Прошел месяц с тех пор, как я вернулась в свой родной город, где приходится убеждать себя, что небо — оно существует. Я снова читаю прессу и отвечаю на звонки, прослушивая автоответчик, снова спешно ловлю такси или спускаюсь в подземку, снова включилась в гонку за собственной жизнью, как и все в Нью‑Йорке. Но понемногу склоняюсь к мысли об эмиграции, хотя не уверена, что на это у меня хватит смелости и сил. На церемонии вручения литературных премий я говорю одной своей знакомой, что подумываю о переезде в Израиль, и та невозмутимо отвечает: «Не уедешь, потому что здесь тебе есть что терять». Неужели? Я — сама того не ожидая — борюсь со старыми друзьями: пытаюсь изменить их представление обо мне. Неужели все мечты об эмиграции не более чем мечты преодолеть границы собственного «я», установленные другими, теми, кто видит тебя насквозь?
Как проблеск лучшей, более правильной реальности я берегу в памяти образ тихой улочки в далекой стране — обычной, но по‑своему уникальной, — где низкое небо и древние желтые камни. Но когда‑нибудь я найду дорогу обратно — и таким путем вернусь домой. 
(Опубликовано в №290, июль 2016)
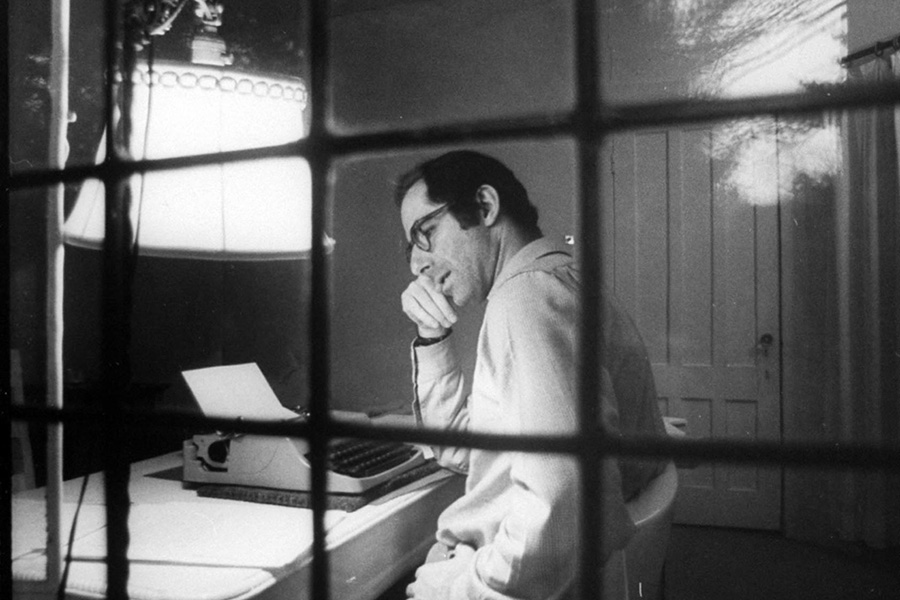
The New York Times: Лучшая книга Филипа Рота: 20 прозаиков, критиков и историков выдвигают свои версии

В Израиле — жить

