Материал любезно предоставлен Jewish Review of Books
За много веков до того, как Париж стал известен как Город огней, евреи знали его как Город пламени — пламени, пожиравшего телеги, груженные еврейскими рукописями, после знаменитого суда над Талмудом (также известного как Парижский диспут) 1240 года. Сожжение книг, от французского королевства до нацистской Германии, — одно из многочисленных преступлений, совершенных против еврейского народа в течение его истории. Оно всегда ощущалось как невероятно жестокое наказание, направленное против всего народа. Во вступлении к описанию Парижского диспута, Procès du Talmud, сказано, что раввин Йехиэль Парижский воскликнул: «Наши тела в ваших руках, даже если наши души свободны». Сожжение священных книг стало трагедией для евреев, оплакивавших утрату, как будто погибли живые люди.
Близкие отношения между людьми и книгами — примечательная черта раввинистического общества, где еврейских мудрецов именуют названиями их величайших научных достижений. Так, набожный литовский раввин Исраэль‑Меир Каган известен под именем своей книги, посвященной законам о клевете, — «Хафец Хаим» («Желающий жизни»), а ученого Йеуду‑Геллера Кагана из Галиции называют по его сочинению «Кунтрес а‑Сфекот» («Тетрадь сомнений»). Наблюдая группу раввинов, сидящих вокруг субботнего стола, повествователь из рассказа Ш.‑Й. Агнона говорит: «Они сидели бок о бок, подобно святым книгам в книжном шкафу. Что было в одном, того недоставало в другом, а чего недоставало в одном, то было в другом».
Это библиофильское уравнение верно и в обратном порядке: книги тоже (почти) люди. Когда молитвенник или другая священная книга падает на пол, евреи с любовью целуют ее, как ребенка, ударившегося во время игры. В синагоге свитки Торы облачены в нарядные чехлы и похожи на царей, делящих свое время между величественным отдыхом в ковчеге и участием в ликующей царской процессии. В праздник Симхат Тора свитки обнимают и танцуют с ними, как на балу. А когда они стареют, их хоронят подле тех ученых, которые посвятили жизнь изучению Торы.
Почти десять лет в издательстве Принстонского университета выходит серия небольших изящных книг, объединенных общей идеей — что книги, особенно религиозные и в том числе еврейские, имеют собственную биографию и об этой биографии стоит рассказать. Принстонские «Жизнеописания великих религиозных книг» можно рассматривать как антитезу «Жизнеописаниям знаменитых евреев», которые выпускает давний соперник Принстона на футбольном поле — Йельский университет. Если у нас есть книги о жизнеописаниях, то почему не жизнеописания книг? Редакторы и авторы серии первыми признали, что принстонские жизнеописания — это своего рода причуда. Но она по большей части удачна и переориентирует изучение религиозной литературы, уводя фокус с богословия, философии и филологии к таким разнообразным занятиям людей, как писательство, чтение, толкование, почитание, изменение назначения и даже демонизация и уничтожение книг. Такой подход оживляет тексты и превращает их в своего рода живой организм.
Можно говорить о принстонской серии как о чем‑то, построенном на аллегории — к религиозным книгам относятся как к святым. Аллегории сами по себе — свойство многих религиозных книг или, точнее, способа их прочтения. Наверное, самый знаменитый пример — это эротически заряженная Песнь Песней, которая тысячелетиями смущала, воодушевляла и вдохновляла читателей Библии такими фразами, как «Две груди твои, как два олененка, как двойня газели, что пасутся средь лилий» (Шир а‑ширим, 4:5). Илана Пардес помещает метафору и аллегорию в центр своего рассказа о том, как сборник любовной лирики древнего Леванта приобрел священное и мистическое значение; стал источником вдохновения для светской и религиозной поэзии, монашеским гимном и феминистским манифестом; прародителем величайших американских хитов, равных Мелвиллу, Уитману и Джимми Роджерсу, и оселком, на котором проверяет себя афроамериканский жизненный опыт.

По словам Пардес, включение Песни Песней в библейский канон исправило отсутствие в Библии настоящего эроса. Оно основано на убеждении, что пасторальные прогулки юных любовников можно читать аллегорически — как «теографию», а не порнографию. Самым знаменитым из еврейских сторонников такой стратегии истолкования был мудрец II века рабби Акива, который выражал свою любовь к этой книге, заявляя, что «весь мир не стоит того дня, когда дана была Израилю Песнь Песней, потому что все Писание свято, а Песнь Песней — святая святых». Однако, даже когда книга удостоилась такой святости, напряжение между ее явным эротическим смыслом и религиозным истолкованием сохранилось. К вящей печали благочестивых раввинов, стихи из Песни Песней звучали в кабацких напевах. Некоторые средневековые еврейские поэты даже сочиняли гомоэротические стихи, вдохновленные Песнью Песней, и отвечали разгневанным критикам, что их следует читать аллегорически, так же как и оригинал.
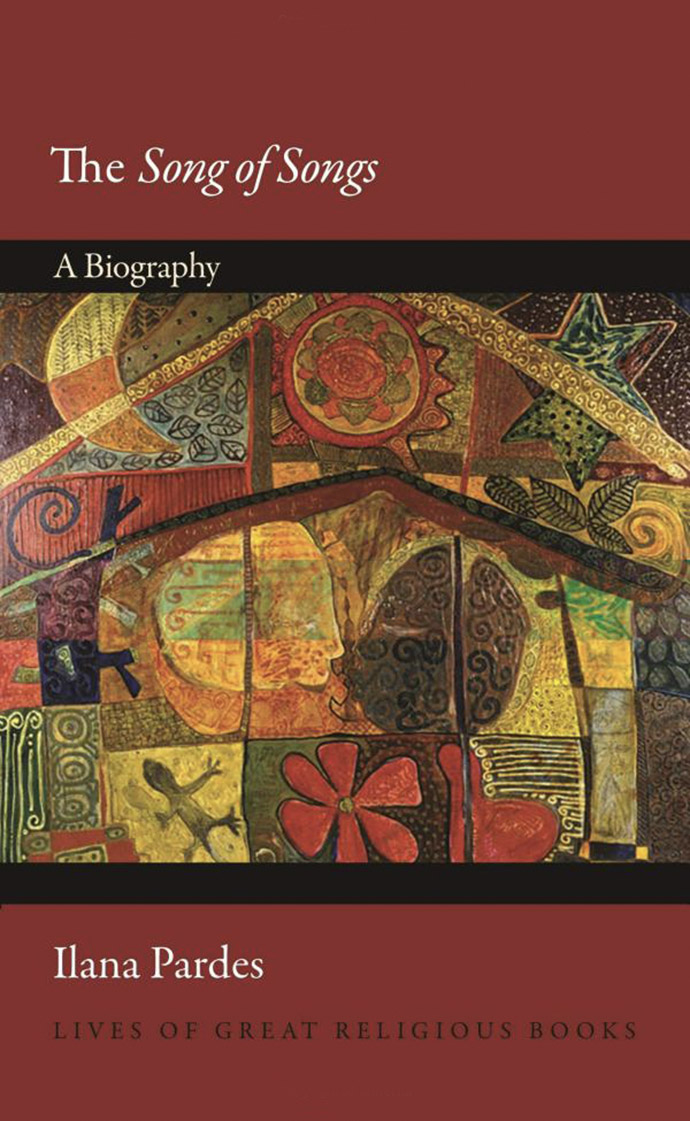
The Song of Songs: A Biography
Песнь песней: биография
Ilana Pardes
Princeton University Press, 296 p.
Совсем недавно возник не менее поучительный конфликт, когда ультраортодоксальное издательство ArtScroll выпустило строго аллегорический перевод книги («…буквальное значение слов настолько далеко от их истинного значения, что оно просто ложно», — прямо сказано в предисловии переводчика), так что стихи о грудях и животных зазвучали строго: «Моше и Аарон, два столпа твоих, подобны двум оленям». Читатели из общины Modern Orthodox крайне резко отреагировали на этот акт поэтической несправедливости, который, по их словам, стал надругательством над боговдохновенным текстом. К чести Пардес надо сказать, что она не торопится давать оценки, искусно проводя читателя через многочисленные перипетии в истории восприятия Песни Песней. Лучшие моменты — когда она предлагает нам переоценить границы аллегории, метафоры и здравого смысла. «Что, груди на самом деле больше похожи на оленей, чем на Моше и Аарона?» Пардес ведет свои рассуждения, демонстрируя, насколько глубоко пронизана аллегориями сама Песнь, а не только ее традиционное прочтение. Свое жизнеописание она уместно завершает малоизвестной притчей Агнона, в которой загадочная Шуламит — возлюбленная из Песни Песней — оказывается самой песней. Красота — это книга.
Хотя традиционно Песнь Песней приписывается царю Шломо, а востоковеды пытаются представить ее составителей в облике юных крестьян, мы не имеем ни малейшего представления о том, кто же сочинил ее на самом деле. Классическая еврейская литература представляет собой канон компиляций, где авторов в общепринятом смысле почти нет. В результате жизнеописания великих еврейских книг редко включают красочные биографические очерки об авторах. Зато они быстро превращаются в историю читателей и толкователей текста.
Одним из исключений из этого правила служит историк I века н. э. Иосиф Флавий. В превосходной биографии его истории первой войны между евреями и Римом (66–73 годы н. э.) Мартин Гудман обращается к часто порождающей негодование, но вызывающей низменный интерес личности автора — политического мальчика на побегушках в римской провинции Палестина середины первого столетия. Иосиф был поставлен во главе сил, которые должны были отвечать за оборону Галилеи; в начале 67 года н. э. он оказался заперт в кровавой пещере, где другие солдаты исполнили принятое на себя обязательство покончить с собой, лишь бы не сдаваться римлянам. Иосиф, ссылаясь на одиннадцатичасовое Б‑жественное вдохновение, отказался от исполнения этого пакта и сдался в плен. Он также разумно предсказал маловероятное возвышение римского генерала Веспасиана, которому удалось стать императором. Иосиф Флавий был свидетелем жестокой осады и разрушения Иерусалима в 70 году н. э., наблюдая за ней с выгодной позиции в римском лагере. Но еще больше притягательности и даже кинематографичности в биографию Иосифа Флавия добавляет тот факт, что оставшиеся десятилетия жизни он провел на римской вилле, наблюдая за триумфом империи, сокрушившей его народ, и лихорадочно создавая мучительную, но гордую историю, на которой до сих пор в большой степени основываются наши представления о еврейской истории древности.
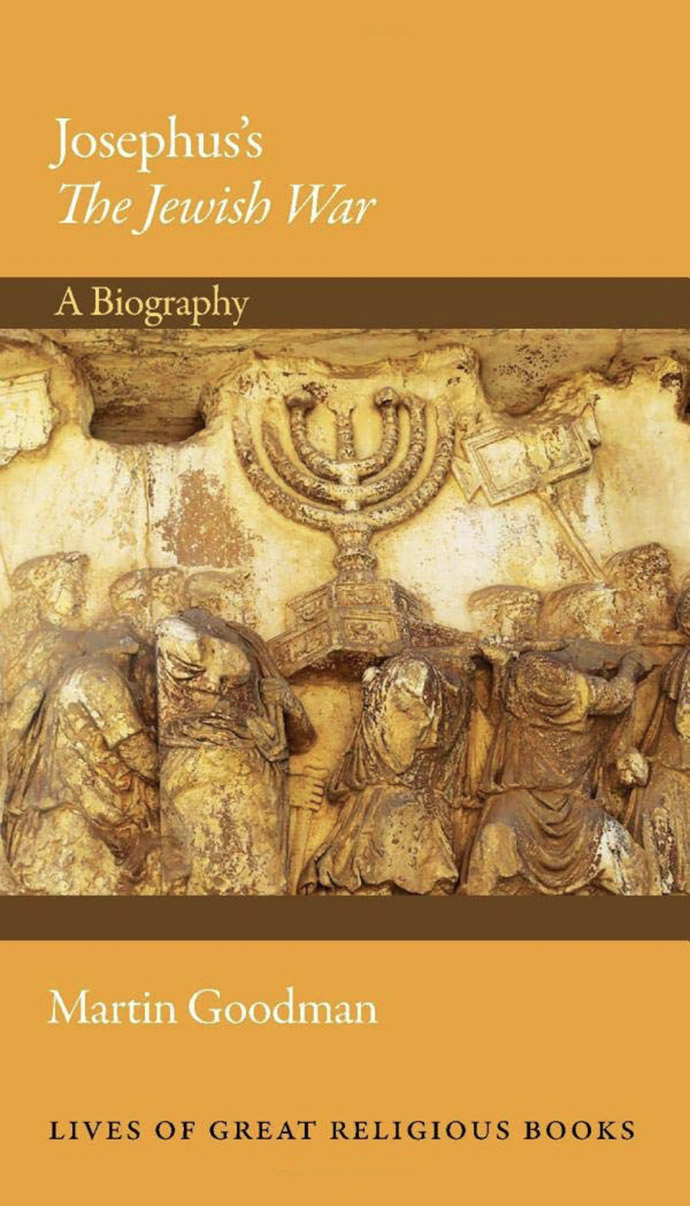
Josephus’s The Jewish War: A Biography
Иудейская война Иосифа: Биография
Martin Goodman
Princeton University Press, 200 p.
Долгая и непредсказуемая посмертная «жизнь» «Иудейской войны» продолжала быть неразрывно связанной с жизнью — и главным образом, с репутацией ее автора. Раввины игнорировали Флавия и его сочинения, как и сочинения других грекоязычных авторов‑евреев, хотя некоторые его анекдоты — например, о том, как еврей предсказал Веспасиану императорский престол, — в том или ином виде проникли в раввинистическую литературу. На самом деле «Иудейская война» и прочие его книги могли бы исчезнуть полностью, если бы Флавий не получил второстепенную роль свидетеля пророчеств Иисуса. Христиан особенно интересовал (поддельный) фрагмент «Иудейской войны», рассказывающий о деяниях Иисуса, и их завораживал страшный раздел, описывающий ужасы разрушения Иерусалима, в том числе жуткие примеры каннибализма. Они видели в этом исполнение апокалиптических пророчеств Иисуса. Христианские интеллектуалы, церкви и государства разве что не крестили Флавия: его жизнеописание вошло в книгу «О знаменитых мужах» св. Иеронима — своего рода историю христианской литературы; средневековые переработки сочинений Флавия вошли в канон эфиопской православной церкви; испанское переложение «Иудейской войны» содержало посвящение кастильской королеве Изабелле в разгар антисемитской кампании, приведшей к изгнанию евреев из Испании.

Флавий вернулся в традиционную еврейскую литературу в виде странного средневекового ивритского коллажа под названием «Йосиппон» — итальянские евреи собрали его из самых разных латинских источников. Сюда вошли «Энеида» Вергилия, перевод Ветхого Завета Иеронима и, как ни странно, христианское переложение «Иудейской войны», в котором повествование Флавия было переделано таким образом, чтобы подчеркнуть Б‑жественное воздаяние евреям. «Йосиппон» позволил себе и другие вольности, самым заметным стал перенос авторства от Йосефа, сына Матитьяу, к некоему неизвестному Йосефу, сыну Гориона.
«Йосиппон» вошел в богослужение Девятого ава, цитировался в алахических респонсах и многие века служил главным еврейским историографическим текстам. Поразительно, но неверная атрибуция «Йосиппона» подарила нам фамилию первого премьер‑министра Израиля, который сменил фамилию с Грин на Бен‑Гурион в честь книги, которую сионисты начала ХХ века читали как героический еврейский призыв к битве. Это может показаться странным многим современным сионистам, которые видят в Иосифе Флавии прежде всего предателя еврейского народа. И действительно, в ХХ веке Флавия неоднократно «судили» за предательство. Но, как показывает Гудман, негативное отношение к этому человеку — преимущественно современное явление, отражающее неустойчивый статус еврея в геополитике.
Третий из 24 томов, опубликованных пока в серии «Жизнеописания великих религиозных книг», можно отнести к категории «еврейская тематика» в терминологии книжных магазинов. Но каким бы информативным ни казалось это определение, оно помешает пониманию роли христиан в биографии этих восьми памятников. Во всех пяти книгах, обсуждаемых в этой рецензии, содержатся плодотворные обсуждения темы пересечения еврейских и христианских читателей, но только в «Свитках Мертвого моря: Биография» Джона Дж. Коллинза межконфессиональная динамика направляет нарратив.

The Dead Sea Scrolls: A Biography
[Свитки Мертвого моря: биография
John J. Collins
Princeton University Press, 288 p.
Надо признать, что Кумранские свитки могут показаться плохим кандидатом на жизнеописание. Они представляют собой не одну книгу, а обширную библиотеку древнееврейских и арамейских (и нескольких греческих) книг. Более того, история их рецепции — это почти исключительно история незнания: 20 столетий провели они в глубоком сне в пещерах на северо‑западном берегу Мертвого моря, пока их не обнаружили в конце 1940‑х — начале 1950‑х годов (любопытно, что несколько Кумранских свитков обнаружены в Каирской генизе, другом великом открытии современности). И все же отрывочная биография свитков предоставляет более чем достаточно материала для создания увлекательного жизнеописания. Разнообразный мир, полный жизни, отразившийся в свитках, и современный мир, когда они вновь стали известны, можно рассматривать как стереографию, где одна линза принадлежит древним сектантам, а вторая — увлеченным ученым.
Коллинз — великолепный рассказчик, обладающий даром безупречной прозы и темпераментом исследователя, позволяющим ему не скатиться к сенсационности, типичной для большинства популярных книг о Кумранских свитках. Он описывает, как свитки открыли, сохраняли и представляли публике, и терпеливо излагает содержание многочисленных дискуссий, связанных с происхождением и значением свитков. Большинство ученых сейчас полагают, что Кумранские свитки были созданы еврейской аскетической группой, известной под именем ессеев. Однако решение этой проблемы не дало ответа на вопросы о связи ессеев с другими древними евреями или с современными христианами и евреями. Более дискуссионной темой является богословское значение присутствующих в свитках упоминаний о некоем христоподобном персонаже — некоторые даже считают, что это раннее свидетельство воскресения Христа. Несколькими примечаниями или вставками Коллинз вводит читателей в академические дебри, признавая, что «сотни тысяч людей, которые терпеливо ждали возможности бросить взгляд на ряд нечитаемых фрагментов в плохо освещенных витринах» пришли, главным образом, чтобы «ощутить прикосновение к прошлому» и насладиться историями о собирателях, подделывателях и дилерах, а также получить здоровую дозу академических сплетен. Примечательно, что Коллинзу удалось даже это грешное желание удовлетворить с достоинством и изяществом.
Современные христиане и евреи, делящие архив, подобно двум разведенным родителям, которые делят ребенка, одновременно больше и меньше самой жизни этих книг. Уже при формировании первого коллектива издателей возникла серьезная проблема с доступом исследователей. Затем на нее наложился невероятно медленный график публикации и душевно больной главный редактор, склонный к антисемитским выпадам. Во всем, что касается свитков, обычно скучная арена научных конференций и публикаций стала центром ожесточенных споров и судебных исков, причем в водоворот попадали и случайные прохожие. Как почтенный судья, принимающий решение в схватке за опеку, Коллинз наблюдает за семейной ссорой с нейтральных позиций, комментируя ее сжатыми замечаниями и вынося трезвое решение. Это позволяет ему сохранить веру в человечество и академический мир и надежду на будущее в изучении Кумранских свитков.
Я регулярно преподаю в колледже курс под названием «Великие еврейские книги», в ходе которого канон расширяется и включает не только знаменитые библейские книги, но и менее известные средневековые сочинения. Подобно списку 10 лучших студентов в конце года, мой силлабус вызвал определенную полемику среди коллег по поводу того, что можно назвать великой еврейской книгой, еврейской книгой или книгой вообще. Хотя никаких однозначных ответов дать нельзя, вопросы о конфессиональной принадлежности и материальной форме религиозных текстов могут быть весьма полезными. В этом отношении можно заметить, что серия «Жизнеописания великих религиозных книг» содержит не только такие ключевые тексты, как Коран и «Лотосовая сутра», но и менее ожидаемые с точки зрения тематики «Просто христианство» К. С. Льюиса, «Письма и заметки из тюремной камеры» Дитриха Бонхёффера и Пасхальная агада.
Людей часто удивляет присутствие агады в силлабусе моего курса, потому что эта книга предназначена не столько для чтения, сколько для ритуального наставления и содержит четкие указания и хитрые мнемонические правила XIII века, призванные помочь провести пасхальный седер. В другое время года к ней редко обращаются, но для семейного праздника она незаменима. Возможно, это оправдывает решение принстонских издателей заказать жизнеописание агады антропологу, а не раввину или медиевисту. У такого решения есть и своя цена в виде неточностей (неверно утверждение, что агада как самостоятельный текст появилась только в XIII веке) и наивности (без всякой критики цитируется длинный материал о Сараевской агаде из телепередачи Nightline). Но надо признать, что научные истории и библиографии агады легкодоступны, и популярный тон и «человечинка» Ванессы Окс прекрасно подходят для задачи рассказать о человеческом аспекте Пасхальной агады.
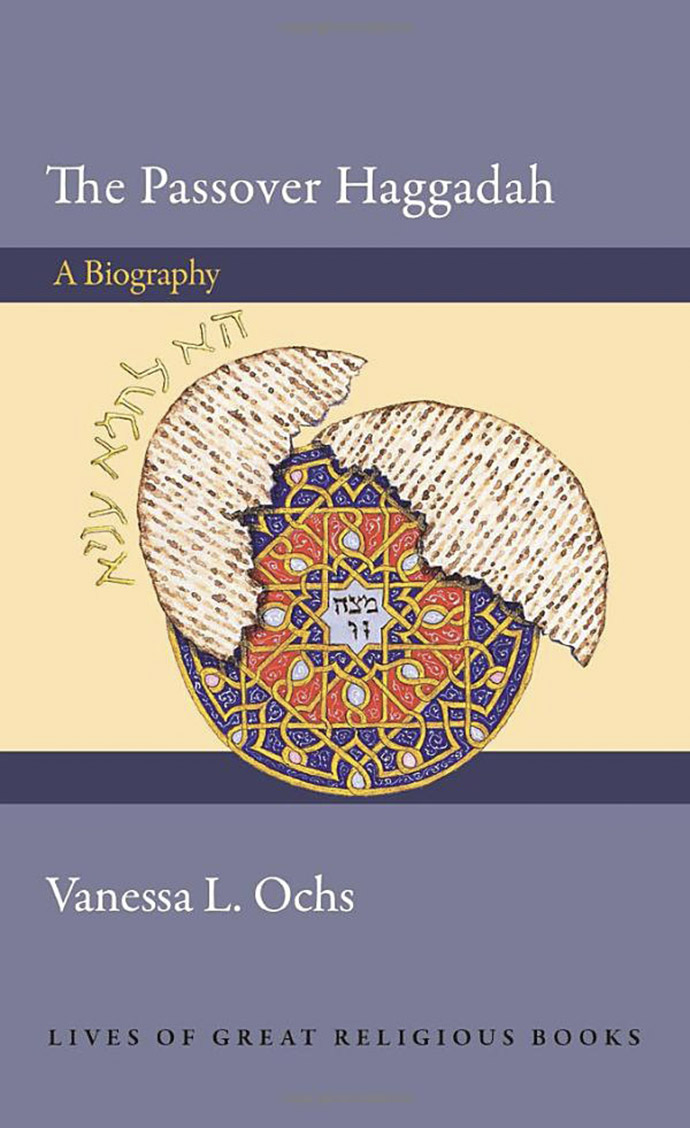
The Passover Haggadah: A Biography
[Пасхальная агада: биография
Vanessa L. Ochs
Princeton University Press, 232 p.
После антропологического введения Окс начинает с элегантной сцены: визит коллекционера в роскошную квартиру, который кончается тем, что на бесценные агадот проливают диетическую колу. Следует урок об «уязвимости, винных брызгах и оскорблении крошками мацы», в котором агада «управляет передачей индивидуальных воспоминаний и прививает чувства». Биография Окс становится убедительнее, когда она доходит до настоящего, которое можно оценить этнографически. Мы находим здесь здравые рассуждения о консумеризме и рекламных агадот («союз между рекламой и священными текстами не порожден еврейской практикой; это логический следующий шаг»), уникальную ауру, исходящую от агадот эпохи Холокоста («с ними обращаются как с живыми свидетельствами — объектами памяти»), и огромное разнообразие размноженных на мимеографе кибуцных агадот, содержащих все что угодно — от антирелигиозных диатриб до списка детей, родившихся в коммуне. Будучи исследователем современных ритуалов, Окс завершает работу рассуждением о современных тенденциях к изготовлению самодельных агадот и высказывает спекулятивное предположение о том, что нас ожидают научно‑фантастические агадот. Хотя, воображая это далекое будущее, Окс видит не антиутопию без людей, а веселое праздничное будущее, где «через портал Агады можно услышать “Хад Гадью” на всех языках мира», а «формула “пусть все голодные насытятся” <…> будет автоматически вызывать пожертвования в благотворительные продовольственные банки».
С VII века н. э. евреи были известны как народ книги. Обычно этой книгой считается Тора, но со Средневековья источником еврейской жизни стала не столько Еврейская Библия, сколько Вавилонский Талмуд. Действительно, одним из факторов, приведших к сожжению еврейских книг в Средние века, стало осознание церкви, что доктрина Августина о евреях как свидетелях, в соответствии с которой евреев следует терпеть в христианском мире, потому что они воплощают собой Ветхий Завет, не имеет под собой оснований. Как объясняет Барри Уимпфхаймер в своей биографии Талмуда, Парижский суд «осудил книгу, как будто это был человек… Персонификация Талмуда поставила его на место всего Израиля». Более, чем любая другая еврейская книга, Талмуд нуждается в описании своей жизни как материального объекта, объекта интеллектуальной одержимости и человеческого выражения народа Книги.
Такое жизнеописание могло бы начаться с живописного портрета родины Вавилонского Талмуда, зародившегося в самом сердце Персидского царства в один из самых поразительных периодов мировой истории. В биографии Талмуда могли бы описываться культурные факторы, которые привели к созданию этого удивительного текста — удивительного в плане интеллектуального полета, тематического диапазона и литературного триумфа. В центре этой биографии было бы великое разнообразие материалов, на которых записывался талмудический текст: рукописи, печатные издания и электронные базы данных, которые указывают на значение каждой материальной фазы для понимания эпохального движения Талмуда из прошлого в настоящее.
Жизнеописание Талмуда могло бы критически оценить увлекательную историю рецепции этого текста, который читали и перечитывали евреи практически в каждом населенном уголке Земли. В нем могли бы описываться крупнейшие школы интерпретации, которые формировались и распадались по мере расцвета и увядания интеллектуальных течений. Биография Талмуда изучала бы и воздействие Талмуда на еврейские общины всего мира, на еврейскую литературу всевозможных жанров на всевозможных языках, на еврейское самосознание в диаспоре и в Государстве Израиль. Наряду с другими принстонскими жизнеописаниями крупнейших письменных традиций, вроде книги Ричарда Дэвиса о «Бхагават‑Гите», это было бы поистине величественное начинание. Но, как свидетельствует эта и другие успешные книги серии, такую работу сделать можно и Талмуд как величайшее религиозное сочинение такой работы требует.

Со всем тщанием составленный Барри Уимпфхаймером том в принстонской серии можно описать по‑разному: как пространный панегирик Талмуду, как собрание мудрых талмудических изречений и, прежде всего, как снабженное примерами введение в талмудический дискурс и интерпретацию талмудического текста и порожденной им алахической литературы. На самом деле решение структурировать книгу в виде ограниченного набора примеров довольно интересно: оно отличает эту книгу от других доступных читателю введений в Талмуд. Одного только нельзя сказать про сочинение «Талмуд: Биография» — что это биография Талмуда.
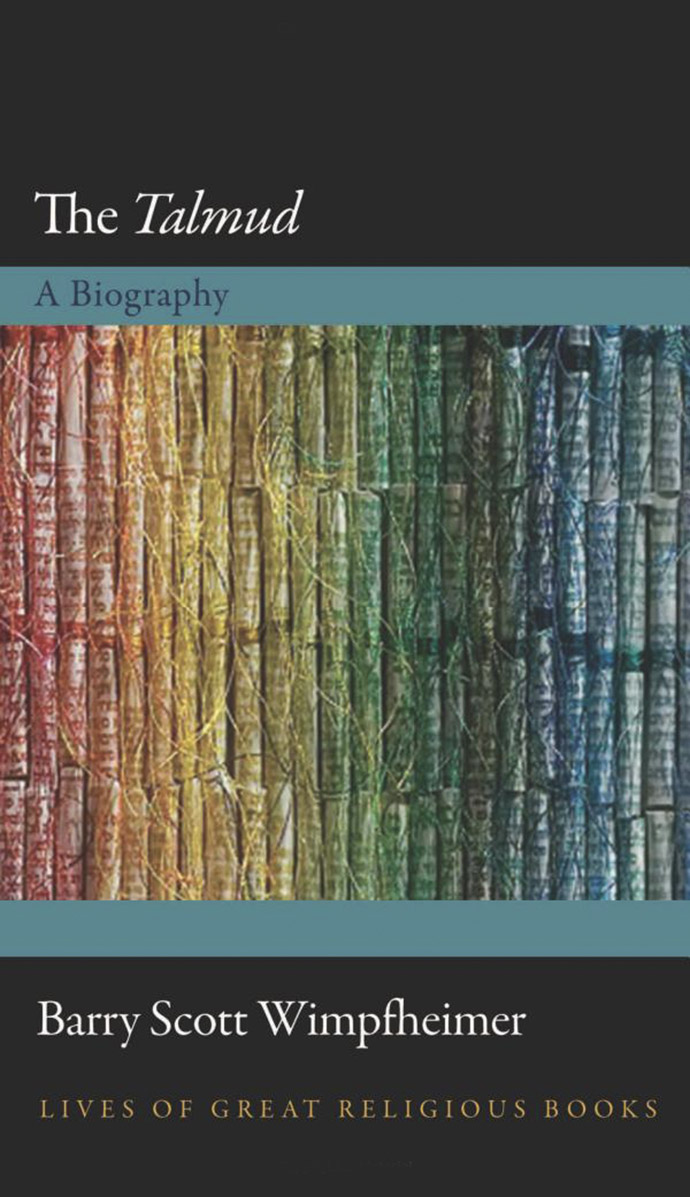
The Talmud: A Biography
[Талмуд: биография
Barry Scott Wimpfheimer
Princeton University Press, 320 p.
Уимпфхаймер делает реверанс в сторону биографической направленности серии. Это продуктивно, когда он обсуждает персонификацию Талмуда на Парижском диспуте, и проблематично, когда он применяет своего рода упрощенную возрастную психологию, делящую Талмуд на три отдельные стадии: «сущностную», «расширенную» и «эмблематическую». «Сущностный» Талмуд, по Уимпфхаймеру, — это исторический, оригинальный талмудический текст, но вместо подкрепленного источниками рассуждения о развитии раввинистического иудаизма и Талмуда мы получаем многословные истолкования раввинистических мифов о происхождении. Более того, в этом рассказе присутствуют явные исторические ошибки, вроде утверждения, что «Вавилонский Талмуд приписывает идеи раввинам, жившим до конца IV века н. э.» (амораи жили до конца V века, а несколько известных талмудических мудрецов творили в VI веке). Необъяснимым образом, новое исследование исторического, политического, культурного и религиозного контекста истории вавилонских евреев для реконструкции первоначального Талмуда не используется, а вместо этого автор сразу переходит к изложению фрагментов дискуссии «новых дискурсов», где находит свое место рядом с Германом Когеном и Эммануэлем Левинасом.
Говоря о «расширенном» Талмуде, Уимпфхаймер обсуждает судьбу сочинения после того, как его статус и авторитет возросли — от представляющих локальный интерес интеллектуальных упражнений вавилонских схоластиков до произведения (еврейской) мировой литературы, ставшего объектом многочисленных комментариев и получившего правовое применение. К сожалению, нам не объясняют, как проходил этот нелегкий процесс. Практически не упоминается динамика или значение перехода от устной передачи к рукописи, и даже несколько более подробные рассуждения о печатных традициях не объясняют, что наборный шрифт означал для печатников и какие последствия он имел для читателей. Присутствует полезный обзор основных школ толкования, но, как и сам Талмуд, эти школы распределены по трем ограниченным разделам: «традиционная» ашкеназская, «интеллектуальная» сефардская и провансальские «посредники». Ни разу не упоминается пильпуль — крайне влиятельное и крайне противоречивое диалектическое движение, процветавшее в Польше XVI века; ни слова мы не находим о «сефардском методе» внимательного чтения, который ассоциируется с Ицхаком Канпантоном и позднее с изгнанниками из Испании. Упоминание о талмудической природе книги «Зоар» дразнит читателя, но никак не раскрывается, а рассуждение о талмудическом происхождении еврейского стендапа (часть «эмблематического» Талмуда) совершенно безосновательно и базируется на единственной статье в журнале Entertainment Weekly. Проще говоря, «Талмуд: Биография» — бесцельное разбазаривание ценной возможности погрузиться в запутанную и плодотворную жизнь Талмуда, рассказав тем самым одну из ключевых историй еврейского народа.

Одним из наиболее часто цитируемых мудрецов Талмуда был красочный персонаж — раввин IV века по имени Раба, который жил в окрестностях столицы Персидского царства Ктесифона, на берегу реки Тигр. В одном из самых памятных изречений, которые ему приписывают, Раба жалуется на этих «глупых <…> людей, которые встают перед свитком Торы, но не встают перед великим человеком». Обычай вставать перед свитком Торы — это прекрасная древняя еврейская традиция, которая отражает такое глубокое почтение перед Писанием, что превращает бездушный пергамент с начертанными на нем святыми словами в почтенного человека, достойного всякого уважения. Осуждая эту практику, Раба говорит, что на самом деле такой демонстрации уважения достойны мудрецы. Каким бы странным ни казалось нам то, что раввин ставит смертных выше Б‑жественной Торы, предпочтения Рабы совершенно понятны: без биографий великих ученых не было бы биографий великих религиозных книг.
Оригинальная публикация: (Almost) People

Позднее Средневековье и эра европейской экспансии (1200–1650): на окраинах империи

Сефарды в Германии: исторические заметки о событиях и лицах

