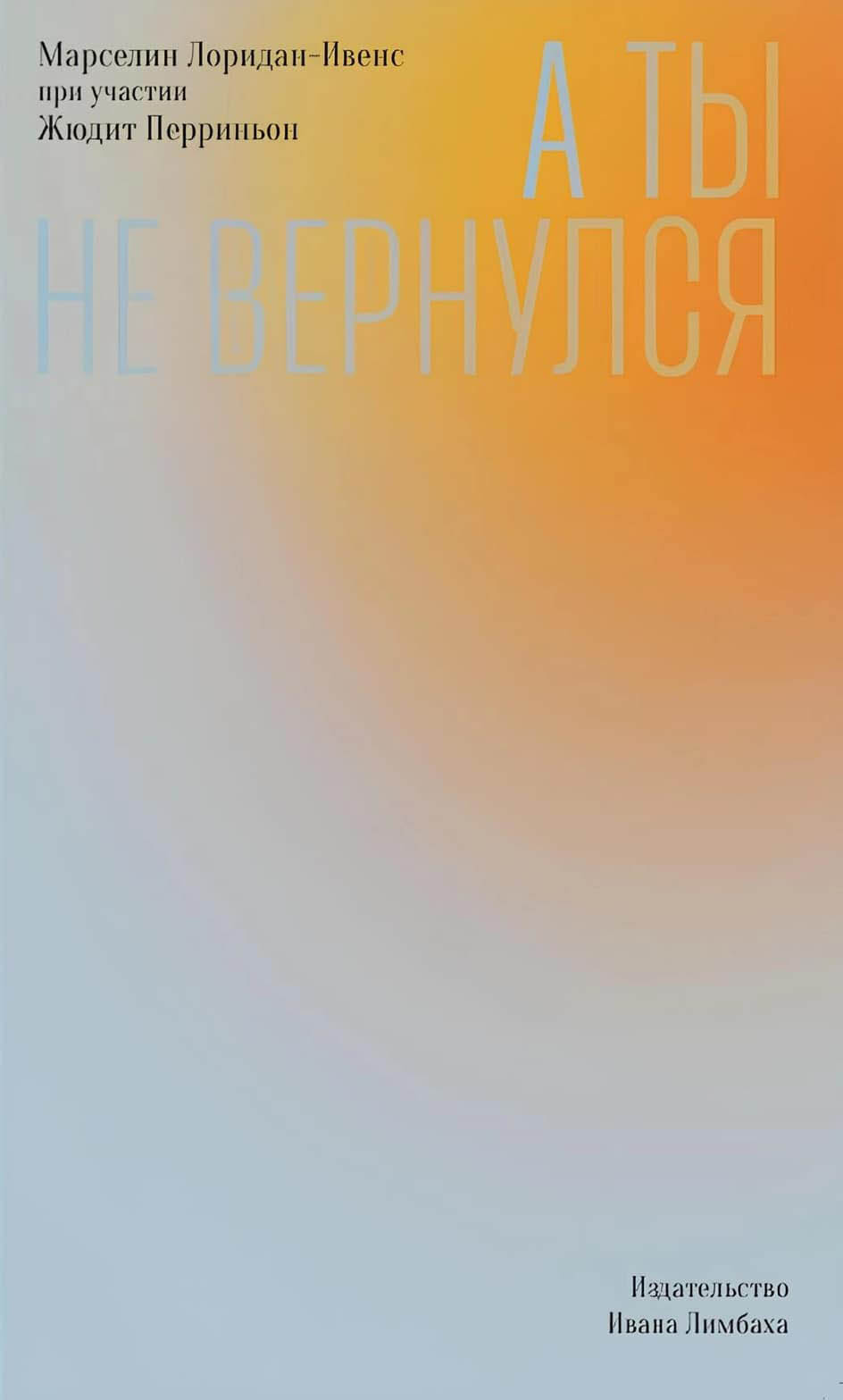
Марселин Лоридан‑Ивенс (при участии Жюдит Перриньон)
А ТЫ НЕ ВЕРНУЛСЯ
Перевод с французского Валерии Фридман. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2024. — 96 с.
А ты не вернулся. В данном случае это утверждение. А мог бы быть и вопрос:
— А ты не вернулся?
Ответим по старой еврейской привычке вопросом на вопрос:
— А было куда возвращаться? А было к кому? А было кому?
Повод задать подобные вопросы есть всегда, хотя не уверен, что у читателя этой небольшой книги найдутся на них ответы, особенно если он задаст их себе самому. И уж точно он не найдет на них ответ в книге французской писательницы и кинорежиссера Марселин Лоридан‑Ивенс. Но вопросы важнее ответов.
Марселин Лоридан‑Ивенс (урожденная Розенберг, 1928–2018) 16‑летней школьницей попала в лагерь смерти Биркенау, пробыла там около года, а потом прожила всю свою долгую и плодотворную жизнь в тени этого события.
Книга начинается с того, что в барак юной заключенной Марселин чудом доставляют письмо от отца, который был схвачен вместе с ней. Вскоре их разлучили. Теперь он находится совсем недалеко от дочери, в Аушвице, и вскоре неизбежно погибнет.
Марселин удалось выжить. И вот через 70 лет она отвечает отцу.
Рассказывает о том, как закончилась ее лагерная эпопея, как она училась жить нормальной жизнью, как это было непросто. Как она боролась за то, что считала правдой. Как бывала счастлива и несчастна, о своем втором муже, одном из величайших кинодокументалистов Йорисе Ивенсе (1898–1989), о своей любви к нему. О том, как продолжала жить, хотя ей, как и всем, кто вышел из лагеря смерти, ремесло жизни давалось с трудом.
Марселин Лоридан‑Ивенс, одновременно и еврейская девушка, не сумевшая ответить на письмо, полученное в лагерном бараке, и очень пожилая уже французская дама. Теперь, на пороге небытия, она все‑таки решилась ответить на давнее лагерное письмо.
«А ты не вернулся». Кто не вернулся? Отец из лагеря. Но на иврите «возвращаться» и «отвечать» — один и тот же глагол. Ты не вернулся ко мне. Я не ответила на твое письмо. Может быть, я отвечу, и ты вернешься? Это попытка заклясть время.
Понятно, зачем это пишет Марселин Лоридан‑Ивенс. Но нам‑то зачем читать это эссе, это письмо, которое так и не нашло адресата?
Вряд ли существует читатель, который прочтет «А ты не вернулся» и впервые узнает о том, что 80 с лишним лет назад евреев в Европе ловили и убивали, как диких зверей, а теперь это называется Холокост. Давайте исходить из того, что слова геноцид, Холокост, Аушвиц, окончательное решение, шесть миллионов и прочие подобные знают все, по крайней мере все, кто имеет привычку читать книги. Этим всем, если они не профессиональные историки, их печальных знаний более чем достаточно.
Так что эту книжку явно не стоит читать, чтобы узнать что‑то новое. Даже почувствовать что‑то новое не получится. Все, что может вместить душа, она уже вместила, а больше ей все равно нельзя — заболеет.
Ответ на вопрос «зачем читать?» очевиден и одновременно парадоксален. Свобода в разных своих обличьях, а именно свобода воли, и свобода выбора, и свобода творчества, делает человека человеком. Лагерь — зона максимальной несвободы, понимаемой не только как физическое уничтожение, но и как расчеловечивание. Человека нужно лишить свободы, главного человеческого качества, чтобы потом его можно было беспрепятственно эксплуатировать и убивать, как скот. Недаром свою книгу об Аушвице великий Примо Леви назвал «Человек ли это?»
Чтение художественной словесности (и беллетристики, и документальных книг) — это зона максимальной свободы. Человека можно заставить читать инструкцию или учебник, навязать ему религиозный или партийный текст, но навязать художественное произведение (по крайней мере, после окончания школы) — никогда. Лучший ответ лагерю — труд писателя и труд читателя. Лагерная проза — не только для увековечивания памяти жертв, но в первую очередь для сокрушения абсолютного зла. Чем текст талантливей, тем сокрушительней его сила. Самый большой удар по лагерной системе нанесли не публикации архивных документов (хотя они, несомненно, важны), а проза Примо Леви и Варлама Шаламова. Нанесли не тем, что сказали правду, а тем, что сказали ее с помощью нового литературного мастерства. Более того, именно литературное мастерство превратило правду факта в истину чувства. Два писателя‑лагерника открыли пути «новой прозы» во второй половине ХХ века. Мы ужасаемся их судьбе — но не этим они уникальны, это судьба миллионов. Прежде всего они великие писатели.
Эстетика — опора памяти, фундамент этики. Ответ на вопрос «зачем читать?» — самый простой: затем, что хорошо написано.
И небольшая книжка Марселин Лоридан‑Ивенс — это прежде всего первоклассная проза, превосходно переведенная на русский язык. Опытный читатель уверится в этом до того, как откроет первую страницу, ему достаточно увидеть марку: «Издательство Ивана Лимбаха». Книги этого петербургского издательства неизменно хороши, прекрасно переведены и тщательно прокомментированы.
«А ты не вернулся» — как и большинство известных мне книг, написанных выжившими, — состоит из двух частей: то, что было лагере, и то, что после лагеря. Процесс возвращения к обычной жизни, точнее, просто к жизни, оказывается не внезапным счастьем, а трудным преодолением травмы и честным признанием того, что травму преодолеть невозможно. Так написана великая дилогия Примо Леви: «Человек ли это?» и «Передышка». Так написана великая дилогия Маши Рольникайте: «Я должна рассказать» и «Это было потом». Вторую часть замечают реже, но она не менее важна, чем первая. В конце концов, большинство из нас не попадало в концлагерь, но оптика бывшего узника/узницы заставляет задуматься: а так ли нормальна наша нормальная жизнь. Они, эти вернувшиеся, умели увидеть под пеленой повседневности скрытые семена угрозы. Это не паранойя, это жизненный, вернее, смертельный опыт, который разрушает жизнь его обладателя, но служит предупреждением и напоминанием всем прочим.
Марселин Розенберг была на год моложе другой еврейской школьницы, Маши Рольникайте, которая в 1941 году попала в Виленское гетто, а в 1943‑м в лагерь смерти Штуттгоф. Маша могла повторить маршрут своей французской сверстницы. Во Франции у Маши был дядя, известный адвокат (нацисты расстреляли его в самом начале оккупации Парижа), и родители хотели отправить ее из родной Литвы учиться во Францию. Не успели. А так, быть может, девочки встретились бы в Дранси.
В результате Машу убивали три с половиной года, Марселин — только год. Выжили обе. У Марселин погиб отец, адресат эссе, но выжила мать, которая после войны снова вышла замуж. У Маши в Понарах убили мать, а отец спасся и после войны снова женился. Обе писательницы чувствуют бóльшую близость с тем из родителей, который погиб. Выжившие ощущают солидарность с убитыми, свою принадлежность к сообществу убитых считают закономерностью, а свою жизнь случайностью, которую слишком легкомысленно было бы назвать счастливой. Жизнь невозможно заслужить, зато, если уж досталась, ее нужно отслужить. Именно для этого всю свою долгую жизнь писала Маша Рольникайте, считая, что она «должна рассказать». Именно для этого на склоне дней пишет и Марселин Лоридан‑Ивенс.
Ее проза — это монолог страстного, но исключительно здравомыслящего человека. Она многое говорит каждому вдумчивому читателю, особенно в России, особенно еврею.
Читатель, припомни, сколько раз могли, точнее, должны были убить каждого твоего дедушку и каждую твою бабушку. Сколько раз они могли умереть от голода или от тифа, в лагере или в расстрельном рву, от бомбы или от пули. Твое существование, то, что ты родился собой, то есть потомком именно этих предков, которые должны были погибнуть, но выжили вопреки теории вероятности, такая же случайность, как и то, что юная Марселин Розенберг выжила в Биркенау, дожила до победы, вернулась во Францию, прожила яркую, полезную и очень длинную жизнь.
Подумай об этом, читатель, когда станешь читать «А ты не вернулся». А потом перечитывать. Я уверен, ты захочешь вернуться к этой небольшой, негромкой, но замечательной книге.

Маша Рольникайте. «Теперь меня не убьют»

От ожога к ожогу

