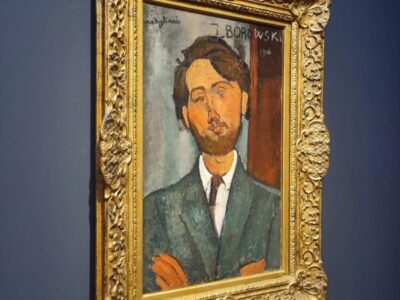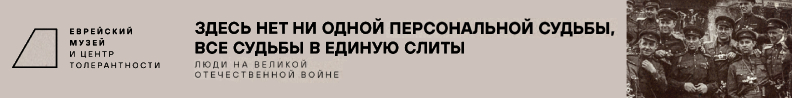Маша Рольникайте. «Теперь меня не убьют»
Маша Рольникайте умерла 7 апреля 2016 года, на 89‑м году жизни.
«Теперь меня не убьют», — подумала Маша Рольникайте, когда советские солдаты вынесли ее на руках из сарая, в котором умирали последние узники Штуттгофа. Впереди была долгая жизнь, и всю ее без остатка Маша Рольникайте потратила на то, чтобы стать голосом тех, кого безжалостно убили.
 Она рассказывала о страшном, о нестерпимом. Самое главное, она рассказала о том, как совсем молодой человек осознает себя внутри исторической трагедии, и как возложенная им на себя миссия записывать, запоминать, чтобы потом свидетельствовать, позволяет ему выстоять, бороться до конца, выжить.
Она рассказывала о страшном, о нестерпимом. Самое главное, она рассказала о том, как совсем молодой человек осознает себя внутри исторической трагедии, и как возложенная им на себя миссия записывать, запоминать, чтобы потом свидетельствовать, позволяет ему выстоять, бороться до конца, выжить.
О Маше Рольникайте привыкли говорить и думать, как о свидетеле. Она сама так о себе думала, настаивая на строгой документальности своих произведений. Но в первую очередь она была замечательным писателем. Ее имя стоит рядом с именами Варлама Шаламова и, конечно же, Примо Леви — писателей, которым выпало на долю переплавить ужас уничтожения в литературное слово, доказать, что и тут писатель выше документа.
Маша Рольникайте родилась в 1927 году в Клайпеде в семье юриста, доктора права Гирша Рольникаса. Детство провела в литовском местечке Плунге. Училась в литовской гимназии. Литовский стал для нее языком образования, а идиш оставался домашним языком. В 1940 году переехала вместе с родителями в Вильнюс.
В первые дни войны семья оказалась разделена. Отец ушел с отступающими советскими войсками и впоследствии сражался в Литовской дивизии. Мать, Тайбе Рольникене, с четырьмя детьми осталась в Вильнюсе и попала в гетто. Мать и младшие брат и сестра Маши Рольникайте погибли в гетто. Старшей сестре Мириам удалось спастись. Саму Машу из гетто отправили в концентрационный лагерь Штрасденгоф под Ригой, а потом — в лагерь Штуттгоф в Польше.
Маша была литературно одаренной школьницей: писала стихи и прозу на литовском языке. С первых дней оккупации она осознала значимость происходящего и стала вести дневник на идише, а не на литовском языке, на котором писала до войны. Она понимала, что большинство узников виленского гетто не знает литовского, и когда ее убьют — дневник на непонятном языке пропадет. Маша продолжала вести свои записи в лагерях, учила их наизусть.
В начале 1960‑х годов Маша Рольникайте, ставшая к тому времени профессиональным литератором, на основе своих дневниковых записей создала на идише документальную повесть «Я должна рассказать». Но первое издание вышло в авторском переводе на литовский язык. Затем она еще раз перевела повесть, на этот раз на русский, этот вариант был впервые напечатан в 1965 году. Наконец, первоначальный вариант книги был издан в Варшаве на идише. Впоследствии повесть «Я должна рассказать» была переведена на восемнадцать языков, причем на многие не по одному разу. Эта книга стала классикой литературы о Холокосте. Последнее издание на русском языке вышло в 2015 году.
В 1964 году Маша Рольникайте переехала из Вильнюса в Ленинград. Все дальнейшее ее творчество — на русском языке. Она продолжала писать о Холокосте в Литве, в числе ее наиболее значительных произведений повесть «Привыкни к свету» и документальная повесть «Это было потом», рассказывающая о возвращении из лагеря, о первых годах мирной жизни, о том, как создавалась книга «Я должна рассказать».
Маша Рольникайте неизменно принимала участие во всех мероприятиях, посвященных памяти жертв Холокоста. Постоянно выступала перед своими читателями, перед школьниками и студентами.
Маша Рольникайте до конца выполнила свой долг, рассказала о Катастрофе все, что знала и помнила. В последние годы она переводила с идиша и с литовского на русский, писала автобиографическую прозу. В 2015 году она создала книгу рассказов, в которых в первый раз заговорила не о войне, а о своем довоенном детстве, о послевоенных годах, о ленинградских писателях. Эта новая, очень светлая, полная юмора книга стала предсмертным освобождением от ужасов гетто и лагерей, от тяжкой и горькой ноши свидетельства. Она не дожила до выхода в свет своей последней книги нескольких недель.

Пятый пункт: бай-бай, Байден, речь в Конгрессе, AdidasRIP, Рипс, Руби Намдар

Как хасиду добиться успеха в бизнесе?