ВИКТОР ФИШЛ
Кафка в Иерусалиме: Избранные сочинения
Перевод с чешского. СПб.: Издательство имени Н.И. Новикова, 2014. — 482 с.
Может ли встреча со случайным попутчиком обернуться путешествием во времени? То, что бирка на чемодане видна лишь частично — повествователь в силах прочитать только «Йозеф К.», оборачивается рассказом о воображаемом путешествии в город, давшим название всему сборнику. Кафка мечтал о Палестине и собирался сюда переехать, он учил древнееврейский, и довольно успешно, если верить свидетельству его соученицы, разговор с которой Виктор Фишл (1912–2006) приводит в своих мемуарах. Воображаемое путешествие К. в город его мечты проходит в сопровождении Макса Брода и Франца Вельча, двух друзей Кафки, с которыми позже дружил и Фишл. Внутренние связи, скрытые рифмы и переклички определяют атмосферу книги, представляющей Фишла как поэта, мемуариста и прежде всего прозаика.
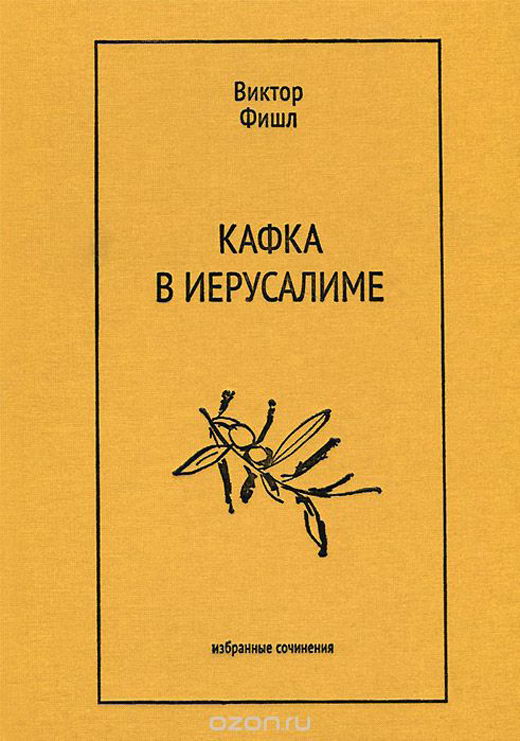
Его избранное вышло в «Библиотеке чешской литературы», но с неменьшим правом том можно было бы издать и в «Библиотеке еврейской литературы», уже под именем Авигдора Дагана — большую часть жизни Фишл прожил с паспортом Израиля, чьим гражданином он стал в 1948‑м и где сделал блестящую дипломатическую карьеру. Как литератор он оказался в одном ряду с Полем Клоделем, Сен‑Жон Персом и другими счастливцами, которым удалось совместить дипломатию и литературу, он стал поверенным в делах в Бирме, послом в Японии, Польше, Югославии, Норвегии и Австрии.
Правда, будучи послом, он почти не печатался, его литературная слава связана с 1930‑ми годами, когда в Праге выходили сборники его стихов, и с последними тремя десятилетиями жизни — выйдя в отставку, Фишл посвятил себя литературе.
В сборник, составленный покойным Олегом Малевичем, включены два романа, «Петушиное пение» (он уже печатался на русском) и «Королевские шуты», переводы стихотворений и фрагменты сборников «Иерусалимские рассказы», «Кафка в Иерусалиме» и «Рассказы из старого цилиндра», а также мемуары. Все они написаны по‑чешски, иногда автор сам переводил свои тексты на немецкий.
В «Друзьях Кафки» он вспоминает, в частности, об общих знакомых с Миленой Есенской, чешской любовью Кафки и его переводчицей. «Я знал трех мужчин, с которыми жила Милена», — пишет Фишл, все эти знакомства совпали с поворотными событиями его жизни. С первым мужем Милены Эрнстом Полаком он познакомился в Лондоне, где в годы Второй мировой войны работал секретарем Яна Масарика, сына знаменитого чешского политика. Со вторым, выдающимся архитектором Яромиром Крейцаром, — в Праге, куда вернулся из эмиграции (до войны Фишл работал в столице Чехословакии парламентским секретарем Еврейской партии). Крейцар был коммунистом, пока в начале 1930‑х не вернулся из Москвы «абсолютно прозревшим». С третьим, Эвженом Клингером, рассказчик едва не породнился — Клингер (именно он привел Милену в компартию в начале 1930‑х) отговаривал брата Фишла от женитьбы на дочери Милены, но безуспешно — брак с девушкой с непростым характером не задался. Позднее та входила в круг Богомила Грабала, ее собственные книги свидетельствовали как о несомненном таланте автора, так и об ее распущенности, пишет мемуарист.
Фишл — мастер деталей. В том же очерке о Есенской он приводит рассказ своего друга поэта Антони Слонимского, пригласившего как‑то к себе в гости писателя Шолома Аша и пианиста Артура Рубинштейна: «Каким‑то образом эти двое вступили в дискуссию на еврейскую тему, и тут Слонимский слышит, как Рубинштейн говорит: “Возьмите, к примеру, обыкновенного еврея…” — но Аш прерывает собеседника вопросом: “Только откуда его взять?”» Вспоминая еврейский круг, сформировавшийся около едва ли не самого близкого друга Кафки Оскара Баума, Фишл замечает: «Ни в одном из этих людей не было ничего обыкновенного. При этом я, разумеется, не могу не думать и о той страшно высокой цене, которую пришлось заплатить за свою “необыкновенность” Кафке и евреям вообще».
Фишл постоянно размышлял об этой цене, одно из свидетельств — роман «Королевские шуты», рассказывающий о четырех заключенных лагеря смерти, за разные таланты и умения «приближенных» к начальнику лагеря гауптману Колю. Фокусник Ван, карлик Лео Ризенберг, сам рассказчик, который мог «видеть и понимать то, что для других оставалось тайной», в быту это проявлялось в том, что он предсказывал ближайшее будущее, и Макс Гиммельфарб, умеющий читать по звездам (удивительна эта мистическая завороженность насильников при власти собственным будущим, их потребность в бесконечности времени, уверенность, что завтра наступит).
Но даже для «приближенных» лагерная жизнь оставалась лагерной, обессмысливавшей и уничтожавшей этику мирного времени: «Мы все умирали от голода. Я знавал среди нас нечистых на руку, которые стали убийцами только потому, что украли у других несчастных кусок хлеба, нередко уже совсем заплесневелый, чтобы хоть на короткое время справиться с чувством голода. Мог ли я, смел ли судить их? Знал я и немецкого охранника, что тайком таскал нам еду и таким образом, думаю, сохранил некоторым из нас жизнь. Этого же самого немца я видел потом, когда он, следуя едва уловимому кивку унтер‑офицера, сопровождавшего заключенных на работу в каменоломни, размозжил прикладом череп бедолаге, который, споткнувшись, упал и нарушил стройный ряд шеренги. Смел ли я, мог ли я судить?» Необычные способности позволили выжить всем четвертым, но ничего не гарантировали и ни от чего не спасали; жену Вана на спор застрелили у него на глазах во время жонглирования, Ризенберг вскоре после освобождения погиб под колесами поезда.
В приложении публикуются фрагменты писем Фишла и отзывы знавших его людей, в том числе переводчика Олега Малевича. А также — выступления Фишла, например на вручении ему фондом «Хартия‑77» премии имени Ярослава Сейферта. Завершает книгу эссе о рано умершем чешско‑израильском скульпторе Дане Кулке (1938–1979), чьи скульптуры украшают сегодня Иерусалим. Издательство не поскупилось на большую вклейку, где воспроизведены многие картины и скульптуры, о которых пишет Фишл, в том числе скульптура Пилата из музея Тель‑Авива, порождающее множество интерпретаций «Изнасилование», портрет философа, ректора Иерусалимского университета Хуго Бергмана, а также бюст Кафки — логичный финал книги, чье название отсылает к двум важнейшим мифам, связанным со словом, — городу и так и не побывавшему в нем в реальности человеку. Об условных границах этой реальности сам Фишл размышлял всю жизнь.«Каким‑то образом эти двое вступили в дискуссию на еврейскую тему, и тут Слонимский слышит, как Рубинштейн говорит: “Возьмите, к примеру, обыкновенного еврея…” — но Аш прерывает собеседника вопросом: “Только откуда его взять?”»

Сердце вне тела

Иврит и «потерянное поколение»


