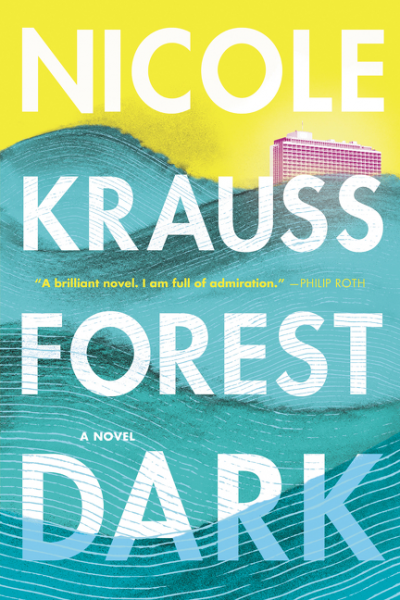
Nicole Krauss
FOREST DARK
Harper/ HarperCollins Publishers. 2017. 290 pp.
В новом романе Николь Краусс «Темный лес» есть один пугающий момент: мужчина в костюме торжественно шагает к краю мокрой крыши и натягивает резиновые перчатки. Писательница наблюдает за ним из окна своего кабинета в соседнем доме. Несколько секунд проходит в оцепенении — она ждет, что мужчина прыгнет или упадет. Вместо этого он опускается на колени и начинает прочищать заполненный листьями водосточный желоб. Оказывается, он просто решил заняться уборкой, не сменив одежду. Роман полон таких тревожных моментов, вводящих читателей в заблуждение. Обычные действия обретают пугающую хрупкость. Одно неверное движение, и все может пойти под откос. Очарование этой восхитительной, пронзительно ясной книги заключается в том, что Краусс время от времени бесстрашно отпускает повествование на самотек.
Читатели, знакомые с другими книгами Краусс — «Хроники любви» и «Большой дом», найдут в романе «Темный лес» уже известные им черты: автор уделяет много внимания процессу написания книг и делится проницательными наблюдениями о том, что может быть общего у людей разных поколений. Однако на этот раз в центре романа — разобщенность и элементы, которые отказываются складываться в единую картину; с этим читатели еще не сталкивались.
Главные герои романа — писательница Николь (называемая только по имени) и адвокат Жюль Эпштейн. Оба они амбициозные и трудолюбивые жители Нью‑Йорка, обеспеченные и добившиеся престижа и известности. Они не встречаются на страницах романа, мы читаем о них в чередующихся главах, но, несмотря на это, Николь и Эпштейн во многом близки.
Эпштейн известен своим красноречием, ненасытной любознательностью и страстью к разговорам и спорам. К тому же он восторженный поклонник искусства, стены его дома увешаны полотнами Рубенса, Боннара и Сарджента, есть даже написанное специально для него полотно Матисса. Николь — автор нескольких романов, переведенных на многие языки, «герои которых евреи, а сюжеты пронизаны отголосками двух тысячелетий истории еврейского народа». Она добилась международного признания и пользуется особой популярностью в Израиле: «Во время последней поездки пожилая женщина в шляпе с завязками под пухлым подбородком зажала меня в супермаркете. Сжав мое запястье своими мясистыми пальцами, она загнала меня в угол молочного отдела и говорила, что от чтения моих книг получала такое же удовольствие, как от плевка на могилу Гитлера (неважно, что могилы Гитлера не существует)».
Понимаете? Писательница всего лишь отправляется за продуктами, и тут эта женщина со своими мясистыми пальцами. Все равно, что плюнуть на несуществующую могилу Гитлера. Это немалая ответственность. В другой сцене Николь резко отвергает предположение о том, что писатель может или должен преследовать некие цели вместе с еврейским народом, как будто еврейский народ — единое и монолитное целое. «О каких именно целях вы говорите? — спрашивает Николь. — Преподнести опыт еврейского народа в определенном свете? Подать его так, чтобы создать более благоприятное преставление о нас? Мне это больше напоминает пиар, нежели литературу».
Я испытал тихую радость, читая эти строки: они напомнили мне разговоры, которые вели мои бабушка и дедушка. Читая газету, бабушка повторяла вечный еврейский вопрос: «А хорошо ли это для евреев?», на что дедушка отвечал: «Для каких евреев, Салли, скажи, для каких евреев?»
Если достижения Эпштейна и Николь слегка тяготят читателей, роман спасает то бремя, которое испытывают сами герои. Оба они, каждый по‑своему, пытаются сбросить с себя груз ожиданий, чтобы снова дышать свободно. Казалось бы, оба добились всего, о чем можно мечтать, и тем не менее они отправляются бесцельно скитаться по просторам собственной жизни.
39‑летняя Николь, всегда уверенная в себе, не может ни писать, ни спать. Ее брак на грани распада. Ее гнетет одиночество, которое наиболее остро ощущается в присутствии других людей — особенно тех, кого мы любим.

Появляется соблазн отождествить героиню Николь с автором, указанным на обложке. Но Краусс — как и В. Г. Зебальд, незримо присутствующий на этих страницах, и как многие другие писатели до нее — играет с этой кажущейся тождественностью, видя в ней способ втянуть нас в рассказ, а отнюдь не раскрыть сокровенные подробности. Беллетристика зачастую так и работает. То, что мы бы сочли объективной истиной, на самом деле полное искажение картины. Затея буквально описывать собственную жизнь — это путь к раздвоению личности, и одна из тайн, в которые пытается проникнуть роман, — возможно ли оказаться в двух местах одновременно. Особенно трогателен момент, когда Николь возвращается в дом, где живет со своей семьей, и явственно ощущает, будто она уже вернулась, будто стала своим собственным двойником: «Я замерла на пороге кухни, и первой моей мыслью было: “Время ускорилось, а я по пути домой каким‑то образом отстала”».
Этот страх отстать от самой себя оказывает неизгладимое влияние на Николь: в какой‑то момент она приводит мысль Фрейда о том, что страх перед двойником возникает не от столкновения с неведомым, а оттого, что в хорошо знакомом внезапно обнаруживаются неизвестные свойства.
Эпштейна постигает та же участь. В возрасте 68 лет, лишившись родителей, он впервые в жизни чувствует себя в тупике. После неожиданного развода с женой — они прожили вместе много лет — он, к изумлению родственников, начинает импульсивно раздавать свое имущество, включая коллекцию живописи. Его адвокат, не раз видевший подобное поведение, ставит диагноз «радикальная благотворительность». В таком состоянии Эпштейн приходит на ужин лидеров американской еврейской общины с Махмудом Аббасом, председателем Палестинской автономии. Здесь собрались все важные шишки — Алан Дершовиц, Мадлен Олбрайт. Бесконечно бойкий на язык Дершовиц начинает речь: «Мой дорогой друг, Абу Мазен», — но разум Эпштейна блуждает; он достиг той стадии, когда неизбежные, но пустые разговоры о мире утратили всякий смысл. «Раньше Эпштейн с радостью воспользовался бы такой возможностью, — пишет Краусс. — Постарался бы оказаться в самом центре внимания, демонстрируя свою важность. Но к чему это теперь? <… > Он устал от всего этого — от пустословия и лицемерия, как своих, так и чужих».
Когда наступает его очередь обращаться к собравшимся, Эпштейн — знаменитый адвокат, мыслитель, речистый болтун, который, как и Дершовиц, никогда за словом в карман не лез, сжимает микрофон и не произносит ни слова. Подобно Николь, наблюдающей за соседом на крыше, Эпштейн внезапно парализован чем‑то вполне привычным и в то же время странным. Тишина. Тишина в комнате, полной произносящих заранее приготовленные речи людей, пугает и ошеломляет. Разумеется, собравшиеся в замешательстве. Тишина оскорбляет гладкоречие. Один из присутствующих, раввин, охотно заполняет вакуум блистательной интерпретацией идеи, которую он, не стесняясь, почерпнул у Абрахама Джошуа Хешеля, о седьмом дне, предназначенном Б‑гом для отдыха, утверждая, что человек должен продолжать соблюдать субботу. Его вывод: ради мира нужно трудиться, так предназначено Б‑гом.
Но это ответ. А ответы, красивые или нет, — это именно то, от чего Эпштейн (и Николь) готовы спасаться бегством. Безмолвие Эпштейна — окуляр, сквозь который можно рассматривать весь роман. «Темный лес» милосердно принимает и даже ценит отсутствие ответов.
Это одна из причин возвращения героев в Израиль. Если и существует на земле место, ускользающее от ответов, несмотря на все пустые высказывания о нем, то это Израиль. Эпштейн родился в Тель‑Авиве: его родители «были выброшены на палестинские берега после войны и зачали его под перегоревшей лампочкой; на новую им не хватало денег». Николь, хоть и родилась в Нью‑Йорке, тоже была зачата в Тель‑Авиве в отеле «Хилтон», безобразном воплощении брутализма, где ее родители отдыхали каждый год. Но, как проницательно заметил Фрейд, знакомое иногда может только усиливать замешательство. Оба персонажа знают Тель‑Авив, но ни тот, ни другая не представляют, чего от него ожидать. Эпштейн едет отдать смутную дань уважения родителям. Николь говорит себе, что будет работать над книгой.
Она задается вопросом: «В чем истинная причина моего приезда? В рассказе человеку всегда нужна причина для каждого действия. Даже если вначале кажется, что мотивация отсутствует, рано или поздно тонкая архитектура сюжета и переклички смыслов неизменно раскрывает ее. Повествование не приемлет бесформенности так же, как свет не приемлет тьмы, оно является полной противоположностью бесформенности, и потому не может передать ее. Хаос является той правдой, которую повествование всегда вынуждено игнорировать, потому что в процессе построения изящных структур, раскрывающих множество правд о жизни, правда о бессвязности и нарушении порядка должна быть скрыта».
И все же, и все же. Неужели не стоит воздать должное правде хаоса? Краусс делает это, предоставляя двум успешным американским евреям — почему же евреям? людям, уязвимым человеческим существам, — временную передышку от самих себя. Израиль, со всем своим немыслимым беспорядком, становится проводником новых возможностей. Отклонений. Благословенных тупиков. Ключевыми событиями романа становятся случайные встречи с двумя незнакомцами, которые пытаются втянуть Эпштейна и Николь в бессмысленную суету. Одна история имеет отношение к фильму о жизни царя Давида (в какой‑то момент режиссер требует побольше филистимлян). Другая основана на сюжете реального телесериала, где чемодан Макса Брода с рукописями Кафки оказывается в руках эксцентричных (чтобы не сказать хуже) сестер‑наследниц. В прошлом Николь и Эпштейн, вероятно, старались бы избегать немыслимых затей. Но, принимая беспорядок и даже радуясь ему, оба они охотно несутся из Тель‑Авива в пустыню в поисках — чего же именно? К счастью, об этом у них нет ни малейшего представления.
Элиас Канетти писал о Кафке, что тот стремился, прежде всего, сохранить за собой право терпеть неудачи. В этом же ключе Краусс, творчески и остроумно интерпретируя Кафку, позволяет Николь и Эпштейну вновь обрести свободу совершать ошибки и терпеть провал. Эту свободу нельзя недооценивать. Это великий дар не только для героев романа, но и для читателей. 
Оригинальная публикация: In ‘Forest Dark,’ Nicole Krauss Plays With Divided Selves

Джонатан Сафран Фоер выпустил первую за 11 лет художественную книгу
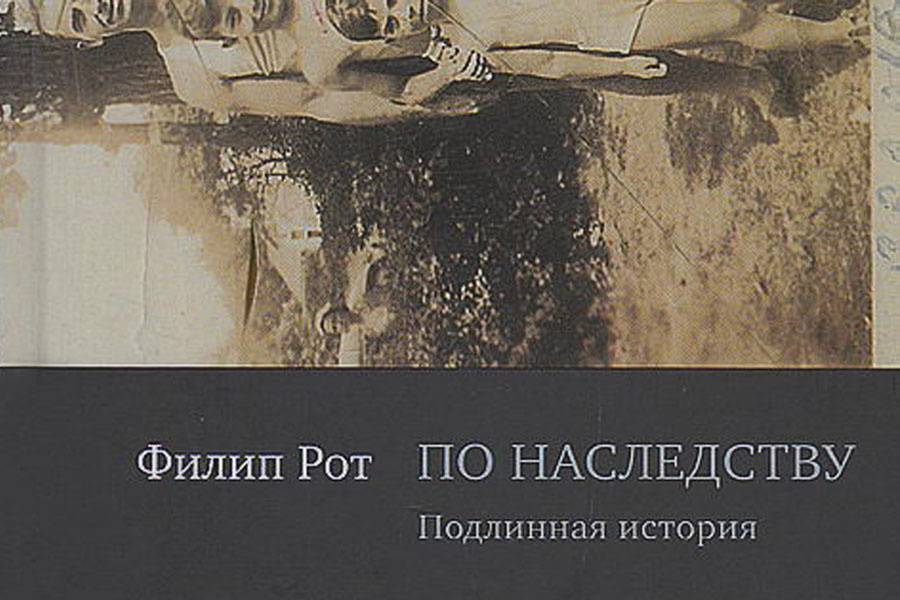
С какой стати человеку умирать?

