Чарлз Резникофф
Холокост
Перевод с англ. А. Сен‑Сенькова /
Вступ. ст. И. Кукулина.
СПб.: Порядок слов, 2016. — 144 с.
Лирическая поэзия отвечает на исторические катаклизмы по‑разному, но в основном двумя путями — стихами‑свидетельствами, возникающими часто сразу по следам случившегося ужаса, и стихами‑комментариями, появляющимися позже, на временно́м и пространственном отдалении от исторического кошмара. Цель стихов‑свидетельств — дать показания о произошедшем, подтвердить и зафиксировать его в деталях, и, хотя подобные свидетельства нередко приобретают форму плача или оды, в основе остается документальное и опять‑таки свидетельское начало. Стихи‑комментарии, как правило, намного более личностны и движимы чувством вины со стороны выжившего поэта или настойчивым желанием испытать на себе катастрофическое событие, через которое поэт сам не прошел. Такие стихи несут на себе яркий отпечаток традиций — поэтических и религиозных, с которыми они вступают в диалог и спор, оценивая их приемлемость для выражения и понимания того, что лежит за пределами любого описания и объяснения.
Четко проглядывают эти два вида и в поэзии о Холокосте: от Суцкевера и Ури‑Цви Гринберга на идише и иврите до Слуцкого и Сельвинского по‑русски. Понятно, что границы между этими видами поэзии условны или даже искусственны — свидетельство часто поневоле переходит в комментарий, и все же они отражают два фундаментально разных подхода к предмету.
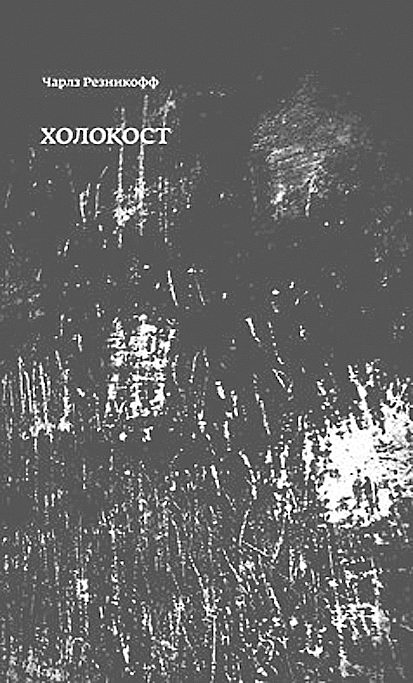
Поэма (а скорее цикл) Чарлза Резникоффа «Холокост», блестяще переведенная на русский Андреем Сен‑Сеньковым, подтверждает эту фундаментальную разницу. Она была опубликована в английском оригинале за год до смерти поэта, в 1975‑м, когда о Холокосте уже говорили много и разными голосами, воспринимая его как прошлое. Резникофф же отметает любую, даже мало‑мальскую попытку комментария или осмысления катастрофы, отдавая предпочтение голым свидетельствам и судебным показаниям. Он пересказывает белым стихом, а иногда цитирует материалы, собранные во время процесса над Эйхманом в Иерусалиме в 1962 году и во время нюрнбергских процессов 1949–1953‑го. Подспудно полемизирует он и с популяризацией Холокоста в Америке — в 1978‑м по телевидению пройдет сериал «Холокост» — и книгой Ханны Арендт «Эйхман в Иерусалиме» (1963), споры о которой расколют американскую еврейскую интеллигенцию на много лет вперед (Арендт умерла в 1975 году, вскоре после выхода поэмы Резникоффа). Неприкрытые факты и свидетельства выживших евреев, выбранные поэтом и покрывающие всю историю Холокоста от убийств и депортаций до газовых камер, опровергают утверждения Арендт о вине евреев и их причастности к своему уничтожению. Резникофф удаляет материалы о цыганах, поляках и военнопленных, воспринимая Холокост как сугубо еврейскую драму, что опять‑таки полемически заостряет текст.
Не случайно, что жена Резникоффа, известная журналистка и сионистка Мари Сиркин, уже в 1947 году утверждала, что о еврейской судьбе во время войны следует говорить отдельно как об «иудеоциде» (Hebrewcide). Поймут ли люди, смотрящие хронику о лагерях, что перед ними на экранах еврейские лица, вопрошала она? И если не поймут, то память о евреях как о евреях «будет стерта, как были уничтожены их тела». И хотя Резникофф использует ставший к 1970‑м стандартным термин «Холокост», он мог бы назвать свою поэму «Hebrewcide». Делая упор на документальные свидетельства и констатацию фактов, отказываясь находить какой‑либо позитивный смысл в катастрофе, поэт в какой‑то мере предвосхищает восьмичасовой фильм Клода Ланцмана «Шоа» (1985). Показательно, что и Резникофф, и Ланцман заканчивают свои эпопеи рассказом о восстании в варшавском гетто и о тех немногих, кто выжил там. И хотя это восстание не отменяет тотальный кошмар Холокоста, оно возвращает еврейскую историю на круги своя — как в смысле катастроф, так и возрождений.
Поэтому Резникофф — поэт‑свидетель и максималист — все же расценивает свой труд как исторический комментарий в рамках библейской традиции. Он не просто выбирает, какие показания включить в канву своей поэмы, но и удаляет имена дающих показания, как нацистских преступников, так и еврейских жертв. Согласно поэту, «читая законы и судебные показания, мы читаем написанное кем‑то. Имена здесь не важны… Важно то, что это было сказано. С Библией дело обстоит так же. В Ветхом Завете самым великим пророком является, наверное, второй Исайя. Никто не знает, кто он такой, но это и не важно. Даже если бы мы знали его имя — ну и что? Важно лишь то, что он сказал. И так во всем, включая и мои книги». Высказывание автора поэмы перекликается с пушкинским «Пророком». Основывая свой стих на эпизоде из книги Исайи, Пушкин удаляет имя пророка. В какой‑то мере анонимность Резникоффа противоречит попыткам разыскать имена всех уничтоженных и увековечить их поименно, и он отдает себе в этом отчет. Он превращает индивидуальные показания в коллективный эпос — вспомним «стомильонный народ» ахматовского «Реквиема» — и придает Холокосту, таким образом, статус Писания, в котором имена евреев стираются и остается лишь свидетельство о том, что они пережили как евреи.
Эта противоречивая связь между вниманием к частной жизни и надличностной коллективной судьбой объединяет все творчество Резникоффа. Юрист по образованию, опубликовавший свой первый сборник стихов в 1918 году, в возрасте 24 лет, он принадлежал к группе поэтов‑объективистов, лидером которых был гениальный Луис Зукофски, выросший в семье говорящих на идише эмигрантов из Восточной Европы и пытавшийся доказать, что его еврейское происхождение не помешает ему быть признанным Паундом, Элиотом и другими «англосаксами», не жаловавшими евреев. Как и русские акмеисты, объективисты ценили в поэзии конкретность, ясность, приземленность и словесную отделку. Лирика Резникоффа следует этим постулатам, ставя во главу угла индивидуальный, приглушенный человеческий опыт. Вместе с тем с самого начала, а с 1930‑х годов все больше и чаще он четко осознавал себя еврейским поэтом, на долю которого выпало писать о народной судьбе на языке изгнания.

Образ чужестранца‑еврея, временно обитающего в земле изгнания, служащего ей и использующего ее язык, один из центральных в его творчестве. Понимание Резникоффом своего отдельного, непостоянного места в американской поэзии отражает раввинистическое понятие о еврейском пребывании в диаспоре. Боль о том, что он не может писать на языке предков, а для него еврейский язык это прежде всего иврит, а не идиш, пронизывает все его творчество. «Как Соломон, / я постоянно женюсь на речи чужестранцев, / кто подобен тебе, о Суламифь», — говорит он в одном из стихотворений. Вместе с тем его английский таит в себе ивритские следы: «мои мысли стали как древний иврит / лишь в двух временных ипостасях: / прошлом и будущем…» Резникофф расценивает свою поэзию как реинкарнацию стихов своего деда Иезекииля, писавшего на иврите и не сумевшего ничего опубликовать. Не веря в важность и долговечность индивидуальных имен для увековечивания Холокоста, он придает огромное значение своему собственному имени: Чарлз означает принадлежащий дому Б‑жьему, а Иезекииль — его еврейское имя в честь деда — укрепленный Г‑сподом.
Именно настойчивая еврейская тема в творчестве Резникоффа и его самоидентификация как поэта‑еврея в изгнании объясняют его второстепенный статус в американской поэзии ХХ века. В отличие от прозаиков — Рота, Беллоу, Маламуда и других, чья еврейскость не помешала им стать живыми классиками, Резникофф, несмотря на важность его творчества для поколения поэтов‑битников и возросший к нему сегодня интерес, остается фигурой невостребованной и неизученной. Появление его «Холокоста» по‑русски представляется, однако, не случайным.
Пауль Целан, переводивший на немецкий Мандельштама, называл его своим братом по крови, подразумевая под этим родство как еврейское, так и поэтическое. Подобные связи прослеживаются и между Резникоффом и русской поэзией. Вспомним о поэте, юристе по образованию, внедрившем память о еврейской Катастрофе в русские строфы и утверждавшем, что его русский — всего лишь перевод с потаенного еврейского: «Я читаюсь не слева направо, / по‑еврейски: справа налево…» Автор этих строк, Борис Слуцкий, — духовный брат Резникоффа. И Резникофф, и Слуцкий пытаются выйти в своих стихах посредством метонимии на нечто целостное — еврейскую традицию и историю. Не случайно, что их обоих привлекала фигура Уриэля Акосты, еврейского отщепенца, ставшего для Резникоффа примером вечного еврея‑бунтаря, а для Слуцкого — примером возвращения в еврейское «пространство». Своим жизненным и творческим путем Слуцкий и Резникофф решают вопрос, как быть одновременно чужим и своим в контексте «приютивших» их традиций, языков и культур.
Можно, таким образом, с уверенностью сказать, что перевод «Холокоста» Резникоффа выходит за рамки отдельного произведения и открывает диалог между русской и американской поэзией, объединяя их еврейские голоса. 

Клод Ланцман: «У меня не было времени испытывать отвращение к нацистам»

Холокост и после Холокоста

