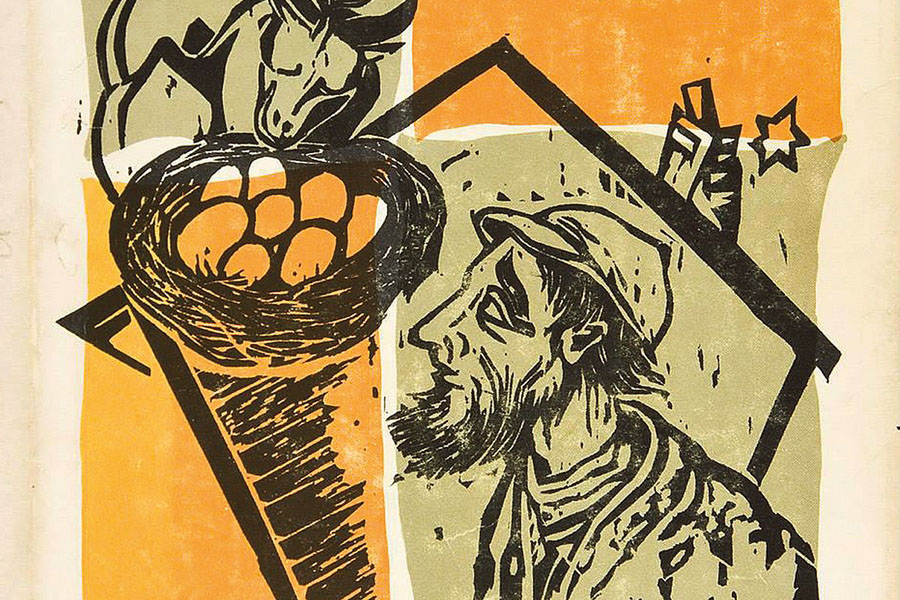Мы вдвоем, Занвел Маркус и я, сидели в кафе Ректора на Бродвее, пили кофе, ели рисовый пудинг. Разговор коснулся периода 1939 — 1945 годов, гитлеровской войны и разрушения Варшавы. Я жил тогда в Соединенных Штатах, а он, Занвел Маркус, оставался в Варшаве и прошел через все ужасы того времени. В Варшаве Занвел Маркус был коммунистом, коммунистом типа, который мы называли «фельетонным». Его колонка внизу полосы была довольно умной, чуть сентиментальной, с большим количеством цитат из писателей и философов. Особенно любил он цитировать Ницше. Насколько мне известно, Занвел Маркус никогда не был женат. Был он низкого роста, с желтой кожей и узкими глазами. Шутил, что происходит от Чингисхана и пленной наложницы, дочери раввина. Маркус страдал по крайней мере дюжиной воображаемых болезней, в том числе импотенцией.
Он и жаловался на последнюю, и хвастал ею, одновременно намекая на свои победы над арийскими женщинами. Много лет он работал корреспондентом еврейской варшавской газеты в Берлине. Он вернулся в Варшаву из Германии в начале 30‑х годов, и мы дружили, пока я не уехал в Америку.
Занвел Маркус прибыл в Штаты в 1948 году из Шанхая, где он жил некоторое время как беженец. В Ныо‑Йорке у него возникла еще одна импотенция — литературная. Он страдал от писательского зуда в правой руке. Редакторы почему‑то пренебрегали его претенциозными афоризмами и цитатами из Ницше, Кьеркегора, Шпенглера и Георга Кайзера. Он заболел, и на сей раз, видимо, на самом деле, раком желудка. Врачи запретили ему курить и пить больше двух чашек кофе в день. Однако Занвел сказал мне:
— Без кофе моя жизнь не стоит щепотки табаку. Я все равно не собираюсь стать американским Мафусаилом.

Историй у Занвела Маркуса было бесчисленное множество, и я никогда не уставал его слушать. Он лично знал всех так называемых профессионалов‑евреев мира. Бывал в еврейской колонии барона Гирша в Аргентине, ездил на все сионистские конгрессы, посетил Южную Африку, Австралию, Эфиопию, Персию. Его фельетоны в Тель‑Авиве переводили на иврит. Я часто пытался убедить его написать мемуары. Занвел обычно отвечал мне парадоксом:
— Все мемуары — сплошная ложь, а поскольку я способен говорить только правду, как мне писать мемуары?
В этот день мы, как всегда, в конце беседы заговорили о любви, верности, измене.
— На своем веку я видел по крайней мере тысячу форм измены, но до 1939 года не мог представить себе такой измены, как у двух беженцев, — сказал Занвел.
— Беженцев? — спросил я. — Что вы имеете в виду?
— Я имею в виду мужчину и женщину в процессе бегства, — пояснил Занвел. — Секундочку, я принесу нам по чашке кофе.
— Я уже выпил достаточно много, — попробовал я возразить.
— Выпьете еще, не будете пить — я выпью — сказал Занвел. — В России, даже при большевиках, можно было получить чашку горячего кофе, но здесь, в «стране Г‑спода Б‑га», горячий кофе вам не дадут ни за деньги, ни из любви. И не только в этом кафетерии. Даже в Уолдорф‑Астории. Я пытался получить его в Вашингтоне, Чикаго, Сан‑Франциско, но безуспешно. Есть такая вещь, как всеобщее помешательство. Подождите, я вернусь через секунду.
Я смотрел, как Занвел берет с соседнего столика пустой поднос и направляется к стойке, но тут же возвращается.
— Где мой чек? — спросил он. — В этом кафетерии, если потеряешь чек, остается один выход — самоубийство.
— Занвел, вы держите чек в руке, — заметил я.
— Что? Да, я действительно теряюсь в Америке. Маразм, по‑видимому.
По дороге к стойке он подхватил кем‑то забытую на стуле газету. Вернулся он с двумя чашками кофе и яичным тортом. Газета была вчерашняя. Я прикоснулся к чашке и сообщил Занвелу:
— Эта чашка обжигает, что вы скажете?
— Чашка, а не кофе, — поправил меня он. — Американский трюк, они нагревают чашки, а содержимое оставляют холодным. Американцы не верят в объективную истину. Американского судью не интересует, виновен подсудимый или нет. Его заботит только, безупречна ли защита. Это же относится к женскому полу. Женщина не хочет быть красивой, она хочет лишь казаться красивой. Если косметика на ней удалась — значит, она красавица. Когда Адам и Ева обнаружили, что наги, Ева сразу же стала сшивать фиговые листочки.
— А где же это были беженцы? — напомнил я.
Занвел уставился на меня, будто не понял, о чем речь.
— О, да, беженцы. Они бежали от Гитлера. Это произошло, когда радио объявило, что все в Варшаве должны успеть перебраться через Пражский мост в ту часть Польши, которую Молотов и Риббентроп поделили между собой. На город падали бомбы. Здания рушились, среди развалин валялись трупы. Новый диктатор, преемник Пилсудского Рыдз‑Смиглы, был такой полководец, как я турок. Кроме разукрашенной фуражки с блестящим козырьком, у него ничего не было. Поляки и евреи были далеки друг от друга, как небо от земли, но тех и других постигло одно и то же несчастье — безумный оптимизм. Евреи не сомневались, что Всемогущий, по сути дела антисемит, любит их больше, чем кого бы то ни было, а поляки рассчитывали на силу своих усов. У польского генерального штаба в те дни были только бронзовые медали и пышные усы. Их конница шла на танки с саблями, как во времена Яна Собеского. Их вожди подкручивали усы, до самой последней минуты уверяя, что победа на их стороне. Я жил в маленькой гостинице на Мыльной улице. Улочка эта была так хорошо упрятана, что никто не мог найти ее, даже письмоносец. Услышав объявление по радио, я взял сумку и побежал. Было ясно, что среди этого ада невозможно нести чемодан. Я видел, как люди бежали с сундуками, которые и верблюду не под силу.
Занвел отпил кофе и поморщился:
— Холодный, как лед!
— А что же беженцы? — снова напомнил я.
— Одного вы хорошо знали — Файтла Порисовера, драматурга. Может быть, знали и его жену Цветл?
— У него была жена? — удивился я.
— Видимо, он женился после вашего отъезда в Америку, — сказал Занвел. — Если вы помните, у Файтла был писклявый голос, и всем своим героям он давал такой же. Пытался подражать Чехову. Чеховские герои постоянно говорят шепотом и вздыхают, файтловские верещат, как сверчки за печкой моего дедушки. Вы помните, что Файтл не вышел ростом, но жена его Цветл, актриса, была великаншей с мужским голосом. Файтл, вероятно, обещал ей главные роли в своих пьесах. Сам он тоже пробавлялся одними обещаниями. Герман, режиссер, ежегодно обещал ему поставить какой‑нибудь его шедевр. Герману же один из театральных ангелов обещал деньги на постановку. Цепь обещаний! Этот ангел был жуликом и банкротом. Я забыл, как его звали. Память играет со мною в прятки: когда она мне нужна, ее нет, а когда не нужна, напоминает о тысячах мелочей, особенно ночыо, не давая заснуть.
— Что я говорил? Да, мы бежали. Среди бегущих было только несколько женщин, но была Цветл и был Файтл. Он тащил полный чемодан своих пьес, она — коробку с нарядами и корзину с едой, целыми колбасами, сырами, банками сардин, селедки. Ноги у нее были длинные, бежала она быстро, тогда как Файтл, этот шлимазл, семенил за ней крошечными шажками. Он звал ее своим писклявым голосом, умолял не спешить, а она притворялась глухой. Мы все должны были бежать, в любой момент могли прилететь фашистские самолеты и расстрелять нас.
— Сначала все были увешаны вещами, которые со временем пришлось побросать. Дорогу усеяли брошенные узлы, корзины, мешки, сумки. Когда Файтл понял, что не сможет дальше бежать с чемоданом, он остановился, чтобы выбрать лучшие, по его мнению, пьесы и выбросить остальные. Не будь это так страшно, было бы забавно: человек в горячке бегства решает, где таится его бессмертие. Говорили, что под конец он оставил только одну пьесу, страницы которой рассовал по карманам. Крестьяне соседних деревень, их жены и дети подбирали добычу, лишь рукописи Файтла никого не прельстили.

— Теперь слушайте. Вместе со всеми бежал так называемый поэт, еврейский поэт. Он часто появлялся на литературной сцене Варшавы после вашего отъезда в Америку. Звали его Бенче Зотлмахер, парень из провинции, громила с лицом боксера и копной волос, торчащих, как проволока. В конце 30‑х годов в клубе писателей проводилось много вечеров для «прогрессистов». Вы знаете, что польские евреи в массе своей не были ни пролетариями, ни, тем более, крестьянами. Но в стихах этих «поэтов» все три миллиона евреев составляли либо заводские рабочие, либо крестьяне. Все эти писаки предсказывали неминуемую социалистическую революцию и диктатуру пролетариата. В последние два‑три года перед войной появились многочисленные троцкисты. Они отчаянно враждовали со сталинистами, те и другие называли друг друга империалистами, фашистами, врагами народа, провокаторами, угрожали друг другу, говорили, что рано или поздно массы восстанут и всех предателей повесят на фонарях. Помню, президент клуба доктор Готлиб спросил как‑то во время дебатов: «Где это найдут они в Варшаве столько фонарных столбов?»
— Бенче поначалу был сталинистом, потом переметнулся к троцкистам. Поэзии ему было мало. Когда сталинисты перебивали его, он сбегал со сцены и пускал в ход свои мощные кулаки. Часто били его самого, случалось, что он ходил с забинтованной головой. Однажды я из любопытства послушал его — обычные штампы и банальности. В день бегства из Варшавы поэт доказал, что бегает лучше всех. На спине у себя он водрузил два огромных рюкзака, в руках у него было два больших чемодана.
Все мы бежали в ту часть Польши, которая предназначалась Сталину. Бенче Зотлмахер быстро оценил ситуацию: он поставил не на ту лошадь! Мы все бежали в Белосток, где было полно русских. Варшавские сталинисты бежали отдельной группой и готовились взять власть, как только пересекут границу. Кто‑то сказал, что Бенче скорее уцелел бы, оставшись в Варшаве с нацистами, а не свяжись он с бывшими товарищами в Белостоке.
Поскольку у меня почти не было вещей (то, что я захватил с собой, было брошено еще до того как мы добрались до моста), я мог идти быстро, почти так же, как Бенче. Мне довелось стать свидетелем любопытных событий. Во‑первых, того, как Бенче пытался на ходу подружиться со сталинистами. Это не потребовало много времени. Он действовал откровенно и бесстыдно. Отправляясь в бегство, он запасся большим количеством сигарет и теперь предлагал их только сталинистам. Мало кто захватил в суматохе курево, а Бенче хорошо подготовился. Если сигарету осмеливался просить у него троцкист, Бенче громко — чтобы все слышали! — отвечал, что не желает иметь ничего общего с троцкистскими предателями, лакеями Рокфеллера и Херста, фашистскими агентами. Я ожидал, что сталинисты отвергнут этого фальшивого неофита, но нет, этого не произошло. Для политиканов перейти на другую сторону без всяких предисловий — обычная история. Они, сталинисты, уже сами поступали так. Коль скоро Бенче наплевал на троцкистов, источая хвалу товарищу Сталину, они приняли его в свое общество как своего. Homo politico никогда не интересуют истинная вера и честные намерения, для них важна только принадлежность к тем, кто выигрывает.
Вторым жестоким событием явился роман Бенче и Цветл, жены Файтла. У Бенче в Варшаве остались жена и дети, но сейчас ему было выгодно сблизиться с Цветл. Скоро они уже целовались и обнимались на ходу, вели себя как давние любовники. Она то и дело предлагала ему что‑нибудь из своих съестных припасов, и он ел из ее рук. Эта женщина, казалось, совершенно забыла о своем муже, который плелся где‑то за несколько километров. Как ни был Бенче нагружен собственным добром, он понес и коробку Цветл, а она вознаграждала его колбасой и хлебом. Это все было так откровенно и соответствовало вечным законам поведения людей.
— Мы пришли в местечко, я не помню его названия, где не было даже намека на войну. Не знаю, была ли это уже сталинская часть Польши или ничейная земля. Евреи вышли встречать нас с хлебом, молоком, водой. Беженцев устраивали на ночь в Дом учения и в богадельню. Бенче и Цветл, пришедшие первыми, нашли приют в доме местного сталиниста. Через несколько часов я увидел Файтла в Доме учения. Он лежал на скамье, босой, нога у него вздулась от пузырей, растерянный и разбитый. Меня он не узнал, хотя в клубе писателей мы часто встречались с ним раньше. Я назвал себя, и он сказал мне: «Занвел, я уже не принадлежу к этому миру».
— Я боялся, что он тут же умрет, но ему удалось добраться до Белостока, и там сталинисты подвергли его суду. Говорили, что ему пришлось признать все свои грехи перед массами, назвать себя фашистом, гитлеровским шпионом, врагом народа. Насколько мне известно, он каким‑то образом бежал из Белостока в Вильно и там, по‑моему, погиб вместе с другими евреями. У меня в Белостоке были собственные трудности, мне тоже пришлось бежать, но это, как говорится, отдельная глава.
— Можно написать большую книгу о том, что творилось в Белостоке между 1939 и 1941 годом. Некоторое время сталинисты из Варшавы являлись здесь грозной силой. Они образовали своими силами собственный НКВД, принялись копаться в старых еврейских газетах и журналах, расследовать деятельность еврейских писателей. Юноша, который был в Варшаве марксистским критиком, стал экспертом по отысканию контрреволюции. Фашизм, троцкизм, правый уклон, левый уклон в стихах, рассказах, пьесах. В чьем‑то стихотворении о весне в таких невинных словах, как «цветы» и «мотыльки», этот критик ухитрился найти иллюзии по отношению к Муссолини, Леону Блюму, Троцкому и Норману Томасу. Цветы были не чем иным, как символом контрреволюционеров Рыкова, Каменева и Зиновьева, которых уже вычислили. Бенче находился в числе судей. Но вскоре сталинисты начали доносить на своих советским властям. Все это продолжалось до июня 1941-го, когда в Белосток вошли фашисты, и тем, кто уцелел, пришлось снова бежать.
— Что случилось с Бенче? — спросил я. — Он еще жив?
— Жив?! — воскликнул Занвел. — Никто из этих людей не выжил, всех ликвидировали. В 1941 году мне повезло, я добрался до Шанхая. Кто‑то рассказывал, что Бенче удалось добраться до России, он бросился целовать землю социализма, и тут его взяли за воротник, арестовали. Отправили его куда‑то на север, где самый крепкий человек не выдержит больше года. Сотни тысяч таких Бенче были сосланы на верную смерть во имя светлого будущего.
— Что сталось с Цветл? — поинтересовался я.
— Что? В 1948 году она попала в Израиль, там вышла замуж, потом заболела раком и умерла.
Занвел Маркус стряхнул пепел сигареты в чашку с холодным кофе и сказал:
— Вот что такое люди, вот их история и, боюсь, их будущее. Пока что давайте выпьем еще по чашечке кофе.
(Опубликовано в № 88, август 1999)

Суббота в Геенне

Los Angeles Review of Books: Вера в место: Исаак Башевис Зингер в Израиле