Материал любезно предоставлен Tablet
Биографии Ханны Арендт и Гершома Шолема — вариации на тему одной и той же судьбы. Арендт и Шолем, два величайших мыслителя ХХ века, появились на свет с разницей менее чем в десять лет (Шолем — в 1897‑м, Арендт — в 1906‑м) в семьях чрезвычайно ассимилированных немецких евреев. Впоследствии оба, убегая от катастрофы немецких евреев, заново начали жизнь за границей: Шолем — в Палестине, куда он эмигрировал в 1923 году, а Арендт — вначале во Франции, куда она в 1933 году бежала от Гитлера, а затем в Соединенных Штатах, куда в 1940 году она бежала во второй раз. Принадлежность к еврейскому народу неизбежно сделалась стержневым фактом их жизни, и в ходе своей научной работы они напряженно пытались разгадать историческое и политическое значение понятия «еврейство». Арендт занялась политической философией, стала ведущим специалистом по теории тоталитаризма и антисемитизма, Шолем создал практически на пустом месте современные научные исследования еврейского мистицизма. Книги, написанные Арендт и Шолемом, оказали колоссальное влияние на общество и даже сегодня, спустя несколько десятилетий после смерти их авторов, — предмет горячих обсуждений и споров.
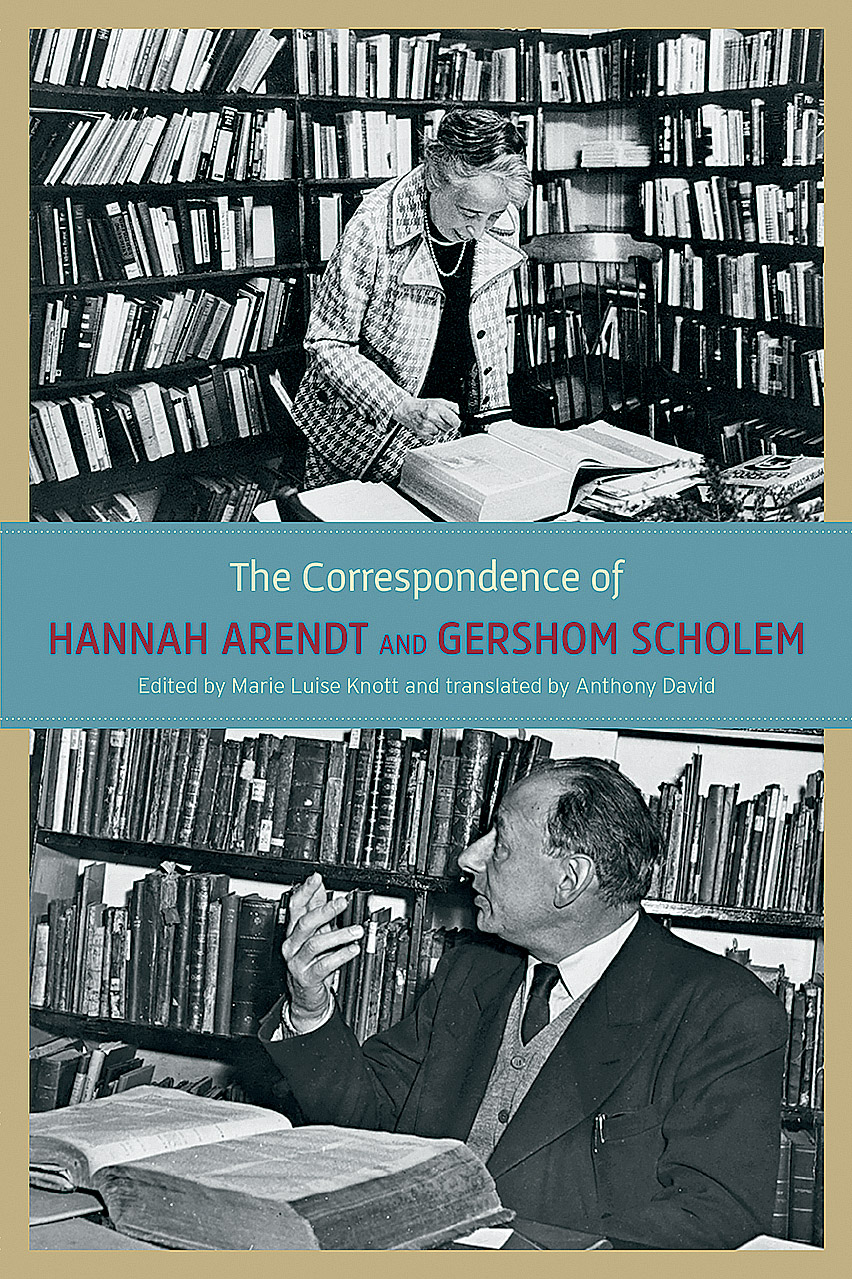
На обложке книги «Переписка Ханны Арендт с Гершомом Шолемом», недавно вышедшей на английском языке («The Correspondence of Hannah Arendt and Gershom Scholem», составитель — Мари Луиза Кнотт, перевод с немецкого — Энтони Дэвид), эти параллели подчеркнуты «визуальной рифмой». На фотографиях Арендт и Шолем, запечатленные по отдельности, на фоне заставленных книгами стеллажей, заглядывают в огромные тома; вот аллегория жизни, прошедшей в чтении, написании философских трудов и размышлениях. Однако, как явствует из этих писем, именно то, что объединяло Арендт и Шолема, впоследствии подтолкнуло их к окончательному разрыву дружеских отношений. В итоге оказалось, что их понимание проблемы еврейства (а в особенности проблемы сионизма, с которым оба были глубоко лично, уникально связаны) — непримиримо разное. По большей части эти различия удавалось скрывать или оставлять «за скобками», особенно когда у Арендт и Шолема имелась какая‑нибудь конкретная задача для совместной работы. Но в их отношениях вновь и вновь возникала трещина, и в конце концов их переписка, начавшаяся в 1939 году и длившаяся двадцать пять лет, прервалась наихудшим из раздоров — раздором на почве принципиальных разногласий.
На всем протяжении своих эпистолярных отношений Арендт и Шолем близкими друзьями никогда не были, а лицом к лицу встречались всего несколько раз. Главное, что их объединяло, — преданность человеку, который их познакомил, — Вальтеру Беньямину , загадочно‑глубокому литературному критику и культурологу. Беньямин и Шолем подружились еще подростками и были очень близки (позднее Шолем посвятил их дружбе воспоминания ), а Арендт познакомилась с Беньямином намного позже — оба были тогда беженцами в Париже. Но оба друга Беньямина, глядя на него, чувствовали, что он нуждается в опеке: и Шолем, и Арендт словно бы знали, что он совершенно не приспособлен к опасностям еврейской жизни в Европе в ХХ веке. И они словно в воду глядели: в сентябре 1940 года Беньямин покончил с собой на франко‑испанской границе после того, как его не впустили в Испанию.
Спустя примерно три недели Арендт написала Шолему, чтобы сообщить ему эту весть. Письмо краткое и сухое, но заканчивается оно cri de coeur : «Евреи в Европе умирают, и хоронят их, как собак». Летом следующего года она рассказала о последних месяцах жизни «Бени» в куда более длинном и подробном письме. Арендт сообщала, что, после того как летом 1940 года Германия завоевала Францию, Беньямин не мог отделаться от нараставшего ощущения безнадежности и обреченности: «Впервые Беньямин стал вновь и вновь заговаривать со мной о самоубийстве: мол, «этот» выход есть всегда. В ответ на мои энергичные и настойчивые возражения, что положение пока небезнадежное — время еще есть, он предсказуемо отвечал, что ничего невозможно знать заранее и в любых обстоятельствах не следует чересчур медлить».

В этих первых письмах постепенно складывалась основная предпосылка взаимоотношений Арендт с Шолемом. Они, выжившие, обязаны выполнить свой долг перед мертвыми — прежде всего перед Беньямином, который умер практически безвестным, так и не опубликовав многие из своих важнейших трудов. Следующие десять лет главными темами их переписки были судьба трудов Беньямина и забота об их издании. Незадолго до смерти Беньямин доверил свое научное наследие Теодору Адорно и Максу Хоркхаймеру , бежавшим в Америку вместе со своим Институтом социальных исследований. У них, по всей вероятности, находился ящик с бумагами Беньямина. Но некоторые ключевые статьи существовали только в виде рукописей, хранившихся у Шолема в Палестине и у Арендт в Нью‑Йорке. (У Арендт находился единственный экземпляр «Тезисов о философии истории» — последней работы Беньямина, которая впоследствии стала одним из ключевых текстов философской мысли ХХ века.)
Арендт и Шолем относились к Адорно и Хоркхаймеру с глубоким недоверием, полагая, что те так и не проявят должного уважения к памяти Беньямина. Со временем они стали отзываться об Адорно и Хоркхаймере крайне пренебрежительно: «Эти господа понимают только язык угроз», — пишет Арендт в 1943 году, а Шолем отвечает, что статья Хоркхаймера о «еврейском вопросе» — «бесстыдное, высокомерное и гнусное нагромождение нелепостей».
За всем этим стоит глубокий личный и политический подтекст, который не вполне ясен из самих писем. Арендт и Шолем считали Адорно карьеристом и, возможно, евреем‑самоненавистником (Арендт подчеркнуто называет Адорно его еврейской фамилией «Визенгрунд») , а вдобавок — своим противником в битве за принадлежность Беньямина тому или иному «интеллектуальному лагерю». Шолем всегда подталкивал друга к тому, что исследовал сам, — к еврейству и мистицизму, полагая, что именно в них — подлинный источник вдохновения Беньямина. Адорно, напротив, тянул Беньямина в сторону революционной марксистской политики и в последние годы его жизни, по‑видимому, брал верх. Борьба за бумаги Беньямина стала посмертным продолжением этого интеллектуального противоборства: решалось, кто вправе объявить Беньямина «своим» — евреи или коммунисты (причем коммунисты в большинстве своем были евреями).
Тем временем Арендт и Шолем в основном избегали темы Холокоста, который тогда разворачивался в Европе. Вместо этого они искали способ напечатать труды Беньямина; жаловались на издателя‑миллионера Залмана Шокена — тот вначале пообещал взяться за этот проект, а потом его забросил; обсуждали публикацию главного труда Шолема «Основные течения в еврейской мистике», вышедшего в 1941 году. Возможно, нас несколько покоробит сосредоточенность на книгах и научных карьерах в подобные времена, и все‑таки ее можно понять. Арендт и Шолем, выжившие при катастрофе цивилизации, были в силах сделать только одно — спасать свою жизнь и оберегать свою работу. Мыслить и писать — таков был их ответ Холокосту даже тогда, когда они не говорили о Холокосте конкретно.
После войны у Арендт и Шолема появился шанс внести более конкретный вклад в эту интеллектуальную спасательную операцию. В 1949 году Арендт стала исполнительным секретарем организации «Восстановление еврейской культуры», которую возглавлял историк Сало Барон, профессор Колумбийского университета; организация стремилась отыскать и вернуть еврейские книги и предметы ритуального назначения, расхищенные нацистами. Шолем у себя в Иерусалиме курировал усилия израильского государства, которое добивалось, чтобы эти книги признали его собственностью. Арендт и Шолем стали обмениваться подробными, с множеством технических деталей письмами о судьбе конкретных собраний и библиотек в Германии (эта переписка включена в средний раздел книги). В плане их биографий эти письма не очень интересны, но они вновь демонстрируют, как серьезно относились Арендт и Шолем к своему долгу выживших — к задаче собрать обломки разрушенной цивилизации и попытаться вновь пустить их в дело.
Но каково было будущее евреев после Холокоста? А если конкретнее, где было их будущее: в Израиле или в диаспоре? Таков был главный вопрос, который развел Арендт и Шолема; к сионизму они относились неоднозначно, но в конечном счете совершенно по‑разному. Шолем был убежденным сионистом с отрочества и в 1923 году (за десять лет до прихода Гитлера к власти) принял крайне редкое по тем временам решение — уехал из Германии в Палестину. (Тогда‑то он и сменил свое немецкое имя Герхард на ивритское Гершом.) Шолем не особо интересовался политикой: в одном письме он называет себя «анархистом», он одним из первых вступил в Брит‑Шалом — малочисленное движение интеллектуалов, которое ратовало за создание двунационального, арабо‑еврейского государства. Но он верил, что по всем законам родина евреев должна быть в Палестине, и был убежден, что его собственная судьба неразрывно связана с этой родиной.
В 1930‑х годах Арендт тоже затянуло на орбиту сионизма. После бегства из гитлеровской Германии в 1933 году она работала в организации «Молодежная алия» , которая обучала молодых европейских евреев, готовя их к эмиграции в Палестину. Во время войны она писала в американской еврейской прессе о сионистской политике и призывала создать еврейскую армию, которая воевала бы в одном строю с державами союзной коалиции. Но в глазах Арендт такая армия должна была стать армией выходцев из разных стран, а не палестинской. Она полагала, что жизнь евреев — совсем как ее собственная еврейская жизнь — должна быть интернациональной, с глубокими корнями в Европе и Америке. Ей была чужда эволюция сионизма, на который неизбежно оказывали влияние война и Холокост, так что сионисты активнее требовали еврейской государственности. Ее неприятие национализма и отвращение к тому, что она мнила еврейской узостью интересов, не позволяло Арендт быть сионисткой в том же смысле, в каком сионистом был Шолем.
Это отличие Арендт от Шолема обнаружилось в 1946 году, после того, как Арендт опубликовала в американском еврейском журнале «Менора» статью под названием «Пересмотренный сионизм». В ней Арендт язвительно критиковала то, что назвала «трагическим <…> отказом передовой части еврейского народа (то есть палестинских евреев. — А. К.) от политического лидерства» . Сионизм, утверждала она, влечет евреев к новому национализму именно тогда, когда опасность национализма стала очевидной для всех. Стремление создать еврейское государство могло вылиться только в неизбывную вражду между евреями и арабами; а поскольку еврейское государство не могло бы выжить без защиты какой‑нибудь великой державы, евреи в итоге оказались бы в той же зависимости, от которой должен был их избавить сионизм. И, наконец, еврейское государство никоим образом не решило бы тех проблем, с которыми сталкивались евреи в диаспоре, в том числе и проблему антисемитизма. Арендт, начав с самого начала — с Теодора Герцля, проанализировала недостатки сионизма и в результате полностью отвергла, как она выразилась, «целый ряд устаревших доктрин» сионизма.
Когда читаешь «Пересмотренный сионизм» сегодня, примечательно, сколько предостережений Арендт оказались пророческими. Однако из ее статьи неясно, было бы лучше, если бы в последние 70 лет история пошла по альтернативному пути и никакого Израиля в качестве еврейского государства вообще не существовало бы. Привычка Арендт видеть в политике не «искусство возможного», а применять к ней высочайшие, идеальные критерии, — одна из черт, сделавших Арендт светилом политической философии, но заодно довольно слабым аналитиком, когда речь шла о реальной политике ее эпохи. Очевидно лишь, что в 1946 году вариант, который предпочла бы Арендт, — объединение евреев и арабов в интернациональную конфедерацию — был попросту невозможен, поскольку ни один житель Палестины его не поддержал бы.
Прочитав статью Арендт, Шолем ужаснулся — понял, как далеки они друг от друга по столь ключевому вопросу. В длинном письме Шолема от 28 января 1946 года и ответе Арендт, датированном 21 апреля, напрямую поставлен ключевой вопрос: «Допустимо ли быть сионистом — то есть декларировать особую преданность еврейскому народу и солидарность с ним? Либо это противоречит нравственному долгу перед человечеством в целом?» Шолем пишет: «Я — националист, и меня нисколько не волнует якобы “прогрессивная” критика той позиции, которую некоторые вновь и вновь, еще в моей ранней молодости, отвергали, объявляя устаревшей». На это Арендт отвечает: «Неужели человек может посвятить всю жизнь серьезному изучению философии и теологии, <…> и в то же самое время утверждать, что верит в какой‑либо “‑изм”?»
Сегодня этот спор по‑прежнему занимает центральное место в еврейской политической жизни; в диалоге Шолема с Арендт классически сформулированы позиции обеих сторон. Арендт и сама сомневалась, сможет ли их дружба пережить «эту оргию откровенности», как она саркастически выразилась, но дружба продолжалась, что, пожалуй, удивительно. Общей работы в «Восстановлении еврейской культуры» и верности памяти Беньямина оказалось достаточно для того, чтобы Шолем и Арендт остались друзьями, пусть и не особенно близкими. (Возможно, обошлось без разрыва именно потому, что дружба никогда не была очень близкой.) В последующие несколько лет их переписка касалась преимущественно дел «Восстановления еврейской культуры». После того как эта организация завершила работу, Арендт и Шалом мало что имели сказать друг другу; с 1953 по 1963 год они обменялись всего лишь в общей сложности двадцатью пятью письмами. По большей части это были короткие записки о договоренностях насчет встреч в Европе или обмене своими новыми книгами.
Выход книги Арендт «Эйхман в Иерусалиме» в 1963 году положил конец их переписке и дружбе. Неприязненная реакция Шолема на книгу и ответ Арендт, исполненный негодования и разочарования, повторили их диалог семнадцатилетней давности о «Пересмотренном сионизме». Шолема смутили несколько конкретных утверждений и аргументов Арендт: прежде всего ее суровые оценки евреев, служивших в созданных нацистами юденратах, и ее знаменитый тезис, что Адольф Эйхман был образчиком «банальности зла». Но главную роль в его реакции сыграло нечто более интуитивное и эмоциональное : Шолем был шокирован и возмущен тоном Арендт, сочтя его недопустимо ироничным, высокомерным и отстраненным. «В еврейском языке есть нечто, ускользающее от всех определений, но вполне конкретное — то, что евреи называют “аават Исраэль”, или “любовь к еврейскому народу”, — написал он. — У вас, моя дорогая Ханна, как и у столь многих интеллектуалов, вышедших из рядов немецких левых, ее нет и в помине».
Основное возражение Шолема против книги Арендт вновь имело отношение к вопросу солидарности. Евреи, считал он, должны писать о Холокосте только с позиции общей скорби и сострадания: Холокост — то, что стряслось с нами, а не просто одно из событий мировой истории. И тем паче так должны поступать такие люди, как Арендт и Шолем, — те, кто жил во время Холокоста и потерял многих друзей и родственников. (Брат Шолема Вернер, активист коммунистического движения, погиб в Бухенвальде.) «Разве при рассмотрении такой темы нет места для смиренного немецкого выражения “такт сердца”?» — спрашивает Шолем.
Наоборот, в понимании Арендт верность нации или религии — именно то, чего следует избегать, поскольку она ведет к пристрастности и сентиментальности. Арендт ответила Шолему, что, естественно, считает себя частью еврейского народа: «Я не только никогда не вела себя так, будто я не еврейка, но даже никогда не чувствовала искушения так себя вести. Это как если б я сказала, что я не женщина, а мужчина. Иными словами, это было бы полное безумие». Но именно потому, что принадлежность к еврейскому народу — факт, и это не выбор, а данность, Арендт считала, что негоже испытывать гордость или любовь из‑за своего еврейства. «До чего же вы правы, когда говорите, что во мне нет такой любви, — пишет она напрямик. — Я никогда в жизни не “любила” ни одну нацию, ни один коллектив». Затем она вспоминает свой разговор с Голдой Меир, которая сказала ей: «Я не верю в Б‑га, я верю в еврейский народ». В понимании Арендт «фраза ужасная» — сродни шовинизму и самолюбованию. Люди должны хранить верность добру и правде, а также друзьям, которых выбирают сами; им не следует хранить верность неким национальным идентичностям или группам людей, поскольку она непременно приводит к отказу от независимого мышления.
По инициативе Шолема эта переписка была опубликована, и на последних страницах книги сообщается о договоренности насчет публикации. Последний текст в книге — письмо Шолема от 1964 года, в котором он сетует на «молчание» Арендт и просит ее встретиться с ним в Нью‑Йорке. Но она не ответила, и они больше не встречались. Как ни удивительно, на сей раз именно Арендт стала инициатором разрыва, хотя в предыдущем конфликте она, казалось, была больше склонна к примирению. Возможно, Арендт пеняла Шолему, что он якобы подпал под влияние «кампании искажения», которую, по ее мнению, в то время развязали против «Эйхмана в Иерусалиме» еврейские организации. Она была убеждена, что критика ее книги не может быть продиктована благими намерениями; а раз так, Шолем — уже не дружественный критик, а враг. Однако по иронии судьбы письма, в которых запечатлен финал их дружбы, — возможно, самое важное наследие этой дружбы. Спустя полвека Шолем и Арендт со всей наглядностью иллюстрируют для нас конфликт между партикуляризмом и универсализмом — конфликт, который остается одним из главных вопросов еврейской жизни. 
Оригинальная публикация: A SHARED DEBT: THE CORRESPONDENCE OF HANNAH ARENDT AND GERSHOM SCHOLEM

Ханна Арендт об Эйхмане: о блеске извращенности

Тайный метафизик

