Материал любезно предоставлен Jewish Review of Books
Я никогда не встречался с Гершомом Шолемом — хотя мог, вернее должен был. В 1978 году, когда я работал над докторской диссертацией, посвященной контактам между восточноевропейскими и западноевропейскими евреями, мой научный руководитель Джордж Мосс сказал мне, что я просто обязан побеседовать с Учителем. В 1917 году, после того как отец выгнал его из дома за антивоенные настроения и излишнюю религиозность, Шолем некоторое время жил в Берлине в пансионе Штрук, где подружился с ведущими восточноевропейскими еврейскими интеллектуалами, в том числе с великим ивритским писателем Ш.‑Й. Агноном, который стал его другом на всю жизнь, и Залманом Рубашовым (впоследствии взявшим фамилию Шазар), будущим президентом Израиля. Шолем действительно был живым свидетелем и участником культурной истории, которую я собирался рассказать. Но в те годы предложить мне пойти к Шолему означало примерно «Почему бы тебе не навестить Б‑га?».
Я благоговел перед человеком, чьи сочинения сияли подобно тем Б‑жественным искрам, которые он находил в каббале. Шолему удалось смешать священное с губительным, творение с разрушением. Он оживил казалось угасшую традицию, увидев в ней мессианские апокалиптические чаяния, миф и иррациональное начало. Его видение иудаизма было наполнено модернистскими категориями — пропасть, слом, парадокс, диалектика, которые трогали даже таких людей, как я, которые в нормальных условиях не проявляли бы ни малейшего интереса к каббале. Более того, я был уверен, что его почитают и боятся по всему миру, что все крупнейшие западные мыслители того времени ведут с ним диалог (и спор). Я вынужден был подчиниться, хотя мне ужасно этого не хотелось, и лелеял надежду, что он, подобно каббалистическому эйн‑соф, окажется недоступен. Я заглянул в телефонную книгу Иерусалима (теперь уже мало кто помнит, что это такое), надеясь, что Шолемов там не окажется. К сожалению, оказались. Дрожащими руками я набрал номер, изо всех сил надеясь, что никто не ответит (в те времена невозможно было оставить сообщение) или что вторая жена Шолема Фаня подойдет к телефону и скажет, что ее мужа нет дома. Ничего такого не случилось. Наоборот, прозвучал всего один гудок (или даже половина), и громкий голос ответил: «Шолем». В ужасе от того, что я услышал самого великого человека, я тут же бросил трубку и так никогда и не встретился с «магидом антиномий», как назвал его философ франкфуртской школы Теодор Адорно.
Казалось, его аура была вечной. Начиная с бурных дней молодости, неповторимая и сильная фигура Шолема всегда внушала одновременно страх и ошеломляющее удивление. Еще в 1921 году Франц Розенцвейг проницательно заметил, что Шолем — это «нечто неслыханное среди западноевропейских евреев. Он, возможно, единственный из нас, кто уже вернулся домой. Но он вернулся туда один». Харизма Шолема никуда не делась; она даже усилилась после его смерти, наступившей в 1982 году. Как еще можно объяснить примечательный факт, что в последнее время в издательстве Принстонского университета вышло переиздание его биографии Шабтая Цви 1957 года, вновь опубликованы его лекции 1939–1940 годов на иврите по истории саббатианского движения, а Дэвид Биль, Амир Энгель, Джордж Прочник и Ноам Задофф почти одновременно выпустили в свет биографии Шолема? Кроме того, Мирьям Задофф составила наконец биографию злосчастного брата Гершома, коммуниста Вернера Шолема, который был убит нацистами в Бухенвальде в июле 1940‑го. Скоро выйдет книга, в которой Джей Геллер рассмотрит историю и судьбу всей семьи Шолемов в контексте истории немецко‑еврейской буржуазии.
При том, что эти биографии тем или иным образом пытаются понять, в чем же состоит притягательность фигуры Шолема, они сами по себе свидетельствуют о том, что сила этой фигуры все еще велика. Это только одна из задач — и ловушек — для биографов Шолема. Им приходится особенно трудно, поскольку Шолем вполне сознательно и лукаво проявлялся лучше всего в личной и интеллектуальной загадочности. Ему нравилось, когда его называли «тайным метафизиком <…> притворяющимся строгим ученым». Иногда он сам говорил о себе — в третьем лице! — как об «учителе волшебства». Когда его спрашивали, не скрывалась ли его мистическая «добыча все время в самом охотнике», он отвечал: «Я придумал не меньше двадцати разных ответов, но истинный скрыт где‑то между моими строками».
«Идеальному» биографу Шолема придется не только документировать, вписать в контекст и оценить жизнь и труды этого ученого, но и проанализировать связь (или, может быть, ее отсутствие) между двумя ними, а также изучить интеллектуальную жизнь Германии и всей Европы в XIX и XX веках, каббалистические штудии, историю евреев Германии, сионизма и Израиля. Фактом, что сейчас можно хотя бы предпринять попытку составить настоящую биографию, мы обязаны тому, что в нашем распоряжении теперь находится архив Шолема, содержащий не только его переписку начиная с 1914 года и до конца жизни, но и его весьма поучительные дневники (преимущественно, хотя не исключительно относящиеся к молодым годам). Я сомневаюсь, что «идеальная» биография когда‑либо будет написана. Но каждая из книг, которой мы коснемся здесь, проливает новый свет на фигуру этого незаурядного мыслителя ХХ столетия.

Герхард (как его назвали при рождении) родился в ассимилированной берлинской семье, принадлежавшей к среднему классу. Он обладал неутомимым и блестящим умом и буйным (даже фанатичным) темпераментом и довольно рано взбунтовался против буржуазного еврейского дома. Он отвергал саму мысль о том, что евреи могут вести осмысленное существование в Германии. Подростком он стал искать радикально новые формы еврейской аутентичности. В его дневниках есть моменты, когда он видел себя чуть ли не мессией этого возрождения. В ярком фрагменте, который цитирует Биль, Шолем пишет, что Мартин Бубер подготовил путь для еврейского возрождения, но ему не суждено было стать избавителем:
А мечтатель, чье имя также означает, что он и есть Тот, кого ожидали, это Шолем — Совершенный [игра слов Шолем и шалем— «совершенный», «целый»]. Ему суждено <…> выковать оружие знания.
После недолгого романа с ортодоксальным иудаизмом Шолем обратился к мистической теолого‑метафизической версии еврейства и сионизма, которое видело в себе единственный истинно еврейский путь и «приготовление к вечности». Тем временем он интенсивно готовил для себя лингвистические и текстуальные «оружия знания». В ноябре 1916 года он писал другу: «Я постоянно и без перерыва занимаюсь Сионом: на работе, в мыслях, на прогулках и даже во сне <…> В конечном итоге я оказался на высокой ступени сионизации, сионизации самого сокровенного толка. Я все измеряю Сионом».
Шолем, как и его брат Вернер, с которым у него были сложные отношения, выступал против Первой мировой войны. Сионизм Герхарда, социализм Вернера и их общее неприятие войны — всего этого их вспыльчивый отец Артур вынести не мог. Все это он считал предательством Германии и решительно выгнал сыновей из дома. (Как проницательно замечает Биль, похоже, что при всех фундаментальных расхождениях, существовавших между Гершомом и его отцом, сын унаследовал от отца взрывной характер.) В отличие от Вернера, который все больше увлекался идеей «мировой революции», Герхард повернулся спиной ко всему, что он считал европейской «нечистотой». Его еврейская революция, писал он в дневнике в январе 1915 года, не может «идти по трупам чужих людей в Западной Европе».
В 1915‑м Шолем познакомился с Вальтером Беньямином, оказавшим на него величайшее интеллектуальное и личное влияние. Их веселые и страстные разговоры об эзотерике и тайнах, интерес Беньямина к языку и переводам обострили восприимчивость Шолема к текстам и заставили его отказаться от былого энтузиазма в отношении романтической концепции Мартина Бубера, который считал истинной сущностью мистицизма Erlebnis — своего рода живое экстатическое переживание. В эти годы становления Шолем изучал математику и, по словам Биля, «превратил себя из блестящего самоучки с широкими и эклектичными интересами в дисциплинированного исследователя каббалы». Но Шолема всегда отличало широкое и живое метафизическое видение, увлечение спасительными, но обманчивыми тенденциями, существующими в самой традиции. Он сам позднее говорил, что его рационалистический скептицизм ученого был «интуитивным утверждением мистических тезисов, стоящих на тонкой грани между религией и нигилизмом».
В 1923 году Шолем переехал в Палестину вслед за своей невестой Эшей Буркхард, с которой они вскоре поженились. Он собирался преподавать математику, но вскоре получил работу директора отдела иудаики в недавно образованной Национальной библиотеке, а через некоторое время, после образования Еврейского университета в 1925 году, начал преподавать в Институте иудаики. Он продолжал заниматься изучением каббалы, периодически писал разочарованные стихи и проникнутые тоской размышления о бездуховности сионистского проекта (который больше интересуется политикой и государственностью, чем еврейским возрождением) и присоединился к движению «Брит Шалом» — маленькой группе интеллектуалов, которые выступали за создание двунационального еврейско‑арабского государства. В силу их очень небольшой численности, отсутствия политических талантов и поддержки среди ишува, а также враждебности арабского населения их усилия при всем их благородстве оказались бесплодными.
Шолем обосновался в Иерусалиме и в период с 1930‑х по 1950‑е годы с фантастической интенсивностью занимался каббалой. Именно в этот период появились его самые известные работы. Благодаря главной работе тех лет — знаменитым лекциям, прочитанным в 1938 году в Нью‑Йоркском еврейском институте религии лекциям, которые позже превратились в книгу «Основные течения в еврейской мистике», — он познакомил современную нерелигиозную публику с внутренней игрой и переработкой традиции в каббалистических сочинениях, показал, как общее в каббале сочетается с частным.
Он предложил трехчастную теорию развития религии и мистицизма в целом и еврейской каббалы в частности. Первоначально, утверждал он, религия зарождалась благодаря непосредственному опыту переживания Б‑жественного. После этого невероятного опыта наступала вторая стадия, когда вырабатывались законы и учреждения, отмечающие дистанцию между человеком и Б‑жеством. На третьей стадии появился мистицизм в попытке вернуться к непосредственному опыту, заслоненному законом. «Новшество» мистицизма состояло в том, что он признавал пропасть, лежащую между человеком и Богом. Уникальность каббалы или еврейского мистицизма состояла в том, что каббала осознавала себя как традицию истолкования, естественным образом нуждавшуюся в посредничестве языка. Поэтому каббала — это не какой‑то невыразимый опыт, а смелая попытка интерпретации, пытающаяся проникнуть в пути Б‑жества.
Трудно, наверное, было американским еврейским слушателям постичь такие идеи, как учение о цимцуме Ицхака Лурии, который говорил:
Для того чтобы создать мир, Б‑г должен был как бы освободить в Себе самом место, покинув некую область, род мистического предвечного пространства, дабы вернуться назад в акте творения и откровения .
Если использовать излюбленную метафору Шолема, его лекции показали, какие мощные ветры дуют в казалось бы тихом приюте иудаизма.
Наверное, самой провокационной работой Шолема была его статья 1937 года о теологии саббатианства «Избавление через грех». По мнению Шабтая Цви и его последователей, некоторые заповеди можно исполнить только через нарушение. Так, обращение Шабтая Цви в ислам рассматривалось как часть его мессианской задачи по избавлению мира. Грех вероотступничества необходим, чтобы спасти искры добра, разбросанные по самым отдаленным сферам зла. В этом удивительном богословском движении, по смелому предположению Шолема, кроются первые ростки еврейской модерности. Кризис традиционной жизни был одновременно внутренним имманентным процессом и следствием внешнего давления. Парадоксальным образом ересь мессианского нигилизма проложила путь и подготовила евреев к Гаскале, религиозной реформе и даже секуляризации эпохи Просвещения.

Дэвид Биль пишет: «Читатель не может не замечать страстную риторику Шолема, когда он рассказывает об этом». Статья проникнута глубинной диалектической амбивалентностью; его критика мессианских опасностей, связанных с саббатианской и франкистской ересью, безошибочна, как и его явная увлеченность, граничащая с наслаждением, освобождающими и одновременно деструктивными силами. Шолем считал эти эпизоды важнейшими для еврейского опыта, и это было важно для него, поскольку он видел иудаизм как открытое, живое историческое явление, потенциально способное на утопию и на катастрофу. Хотя в те годы он писал и на иврите, и по‑немецки, он был убежден, что эту статью можно написать только на иврите. Сионизм сделал возможной историю без апологетики, позволил изучать и понимать самые темные стороны еврейского прошлого.
Шолем терпеть не мог дураков. Он вспоминал, что по приезде в Палестину его удивляло, сколько вокруг «поразительно глупых» людей. Он часто стыдил и жестоко запугивал коллег и студентов. Но все биографы соглашаются, что порой он проявлял гораздо бóльшую сдержанность. Его письма к страдающему депрессией Джорджу Лихтхейму, переводчику «Основных течений еврейской мистики» на английский язык, который в конце концов покончил с собой в Лондоне, наполнены нежностью и отцовской заботой.
Более уязвимая — почти до странности — сторона души Шолема освещена в главе книги Биля, которая называется «Шолем влюбленный». В ней автор описывает разнообразные увлечения своего героя и доказывает, что его величайшей любовью (как предположила однажды его вторая жена Фаня) был Вальтер Беньямин. Биль показывает, в какую ярость приводила Шолема глубина эмоций, которые ощущал он по отношению к другу. «Основные течения в еврейской мистике», как известно, посвящены памяти Беньямина, который покончил с собой под угрозой выдачи в оккупированную нацистами Францию из Испании, где он пытался укрыться. «Памяти Вальтера Беньямина, друга всей моей жизни, чей гений соединял глубокую интуицию метафизика с даром критического истолкования и эрудицией ученого» , — гласит посвящение.
Похоже, что с годами Шолем стал мягче, хотя в конце 1970‑х я все равно ужасно боялся его. На смену былой нетерпимости все больше приходили ирония и ехидство. Прочник пересказывает историю, услышанную от Шолема Синтией Озик, о человеке, который не хотел идти на какое‑то мероприятие, назначенное на далекое будущее. В свое оправдание он взял ежедневник и сказал: «Прошу прощения, но в этот день у меня похороны».
Кроме шуток, биографы Шолема отмечают, какое воздействие оказали на него приход к власти нацистов и Катастрофа. Он следил за событиями из далекой Палестины, но понимал, что его источники информации имеют несколько абстрактный характер: «Все это происходит слишком далеко, и никто точно не знает, что именно происходит». Его письма к матери, написанные в первые годы после установления нацистского режима, где он просит ее прислать ему галстуки и марципан, сейчас читать тревожно. Было много личных тяжелых потрясений: смерть Беньямина, убийство брата в 1940 году, бегство родных в Австралию и его отчаянные поиски утраченных еврейских книг и рукописей для комиссии по реконструкции еврейской культуры в Европе после войны.
Но хотя Шолем, как известно, ругал немецких евреев за их слепую уверенность, что когда‑либо существовал или может существовать «немецко‑еврейский симбиоз», он никогда не говорил о своем понимании немецкого общества, антисемитизма, популярности Гитлера и нацизма или о геноциде. Некоторым исключением можно считать его резкий ответ на «Эйхмана в Иерусалиме» Ханны Арендт (особенно на ее безжалостное описание юденратов как коллаборационистов). Правда, он часто взвешивал возможные последствия. Так, в статье 1948 года «Звезда Давида: История символа», опубликованной вскоре после провозглашения Израилем независимости, он доказывал, что желтая звезда, «которая в наши дни освящена страданиями и ужасом, достойна того, чтобы осветить путь к жизни и восстановлению». Но чаще он заявлял, что дистанция, необходимая для исторической перспективы, еще не достигнута. Амир Энгель, который подробно разбирает эту статью, считает, что личная боль была так сильна, что Шолем предпочел обратиться к более далекому прошлому, «потому что он не в силах был смотреть на катастрофу настоящего».
Все же некоторые биографы прослеживают в работах Шолема явный след, оставленный Холокостом, хотя и определенным образом зашифрованный. Они так или иначе предполагают, что Шолем спрятал реакцию на нацизм в более ранних исследованиях лурианской каббалы и саббатианства, которые он считал оригинальным, хотя и несколько проблематичным ответом на изгнание из Испании. «Избавление через грех» Шолема, по мнению Биля, можно «читать на фоне политической катастрофы 1930‑х годов».
Трудно избавиться от ощущения, что описание Якова Франка как демонического «тирана» на самом деле говорит о гораздо более демонической и более современной фигуре… Историческая катастрофа изгнания из Испании казалась бледной тенью мира, в котором Б‑г скрылся из виду, а нигилизм сорвался с цепи.
И все же, признает Биль, историческое значение саббатианского движения, его готовность «приблизить конец», в некоторых работах Шолема затмевает исторические достижения светского сионизма.
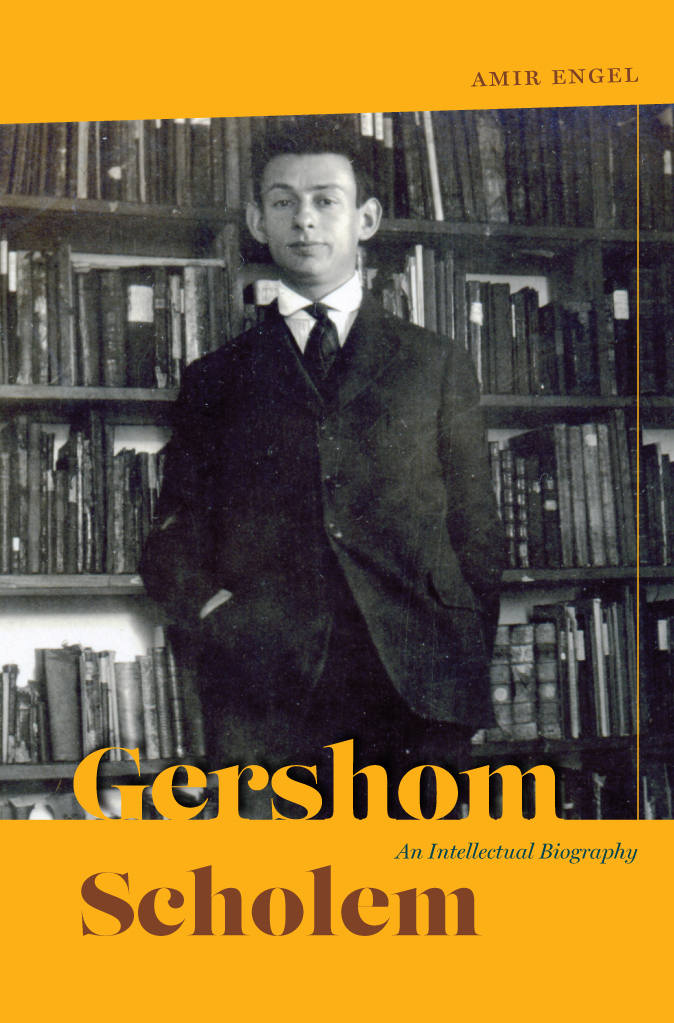
Амир Энгель утверждает, что сумел «демистифицировать» предмет, решительно связав работы Шолема с окружавшими его личными, политическими и историческими обстоятельствами. Энгель считает, что подобное сведение научных достижений к контексту является его «наиболее существенным открытием». Шолем, по его мнению, не искал в каббале метафизические истины; «он организовывал податливый текстовый материал в соответствии с готовыми концепциями». Но если возвращаться к рассуждению об «идеальной» биографии, подобный аргумент потребовал от биографа гораздо более внимательного изучения круга чтения Шолема.
В 1979 году Дэвид Биль выпустил книгу «Гершом Шолем: Каббала и контристория» — первое и до сих пор непревзойденное систематическое изложение идей Шолема. В новой книге он использует дневники и письма, а также опыт, накопленный за десятилетия чтения, написания научных трудов и размышлений о Шолеме, чтобы «проникнуть в его внутреннюю жизнь и увидеть в нем не только мыслителя и писателя, но и человеческое существо». Так, Биль показывает, что 1934–1936 годы стали периодом глубоких личных драм для Шолема, когда распался его первый брак и когда «он оказался во власти глубоких романтических чувств <…> и чувствовал вину за свое поведение в личных отношениях». Далее он утверждает, что незаурядная риторика «Избавления через грех» и одновременное тяготение и отторжение по отношению к фигуре Якова Франка не только отражают бурные события мировой истории того времени, но и «представляют собой проекцию истории собственной внутренней борьбы автора». Можно ли выдвигать подобного рода предположения и если можно, то каким образом — это проблема, с которой сталкиваются все биографы. До какой степени можно проникнуть во внутренний мир другого человека и в то, какие внешние проявления он порождает? Сам Шолем однажды заметил: «Я не знаю собственных глубин и достаточно умен, чтобы признать это». И все же биография, лишенная рассказа о внутренней жизни, была бы пресной. И разумеется, в случае Шолема такие лакуны неизбежны, поскольку вся информация основывается на дневниковых записях, где он писал о посещавших его суицидальных мыслях, фантазиях, неуверенности, депрессии, мессианских притязаниях и глубинных внутренних привязанностях и вражде. На основании этих записей Биль также задается вопросом: может быть, тот факт, что Шолем уклонялся от призыва в германскую армию по психическим причинам и всегда говорил об этом как об уловке, на самом деле свидетельствует о наличии реального душевного заболевания?
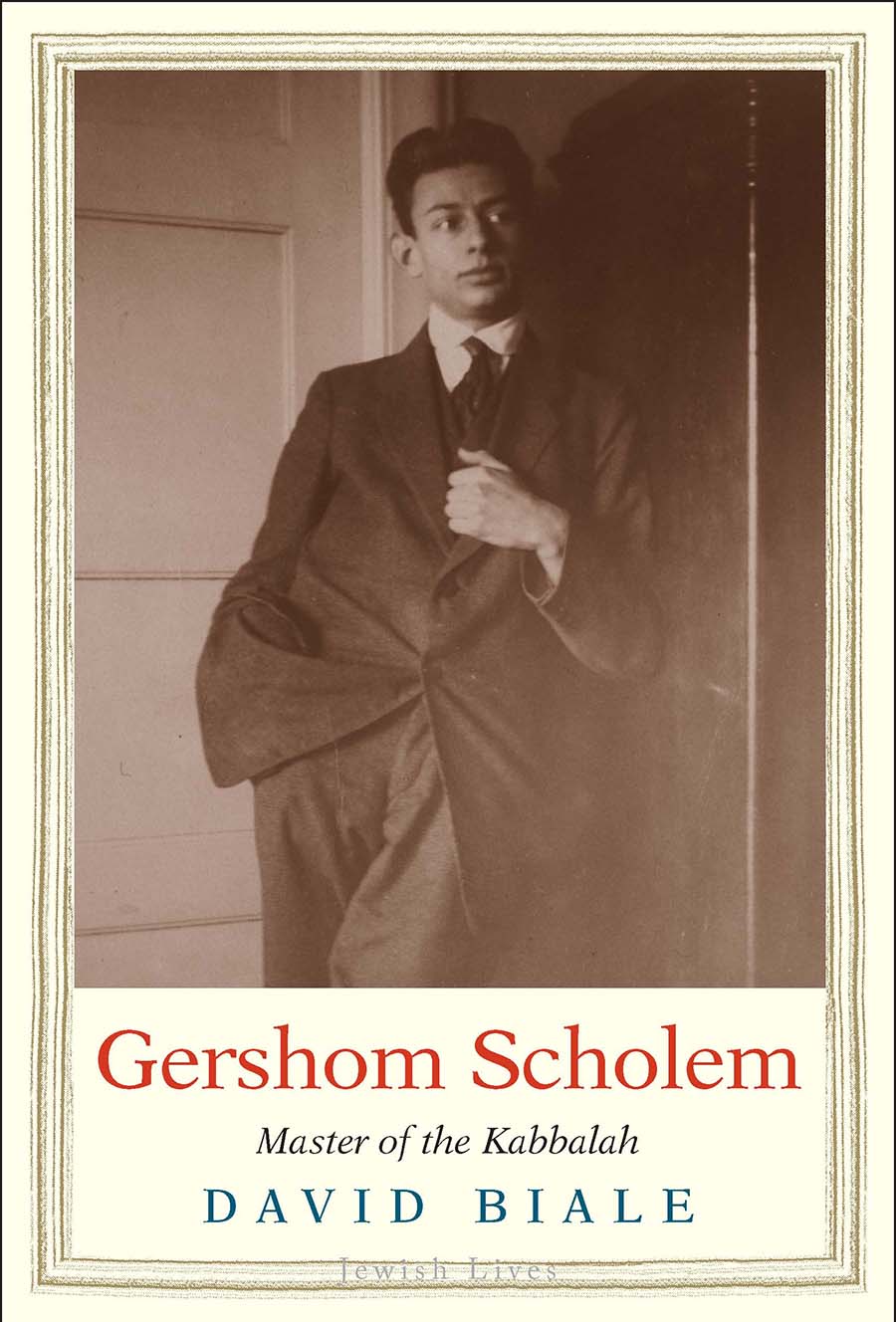
Книга Биля представляет собой оригинальное, порой парадоксальное описание Шолема. Биль показывает ранимого человека, прячущегося за маской уверенного в себе ученого, не умеряя масштаб каждой личности и не скрывая свой восторг перед героем. На могиле Шолема написано, что он был «человеком третьей алии», которую обычно связывают с сионистскими первопроходцами, а не с филологами, но Биль приходит к выводу, что «этот немецкий ученый в костюме и галстуке <…> тоже вгрызался в сухую землю, чтобы взрастить удивительный и неведомый мир».
В книге Джорджа Прочника «Чужой в чужой земле: В поисках Гершома Шолема и Иерусалима» сквозит более наивное восхищение. В книге Прочника, представляющей собой сочетание нон‑фикшн с романом воспитания, живой рассказ о жизни Шолема переплетается с собственной биографией автора. Через призму удивительного обаяния Шолема Прочник рассказывает о собственной юности, браке и духовных поисках Иерусалима. Шолем становится здесь моделью и фоном для самоанализа. Некоторые могут увидеть в этом упражнении претенциозность, даже нарциссизм, однако подобный повествовательный подход наряду с писательским талантом Прочника позволяет ему оживить образ Шолема несколько неожиданным образом. Если Амир Энгель хочет видеть в научном творчестве Шолема комплекс современных мифов и «историй», позволяющих восстановить облик автора и донести его до нашего времени, то Прочник позволяет ощутить немалую изобретательность и глубокую духовную потребность в избавлении, обусловившую деятельность Шолема.
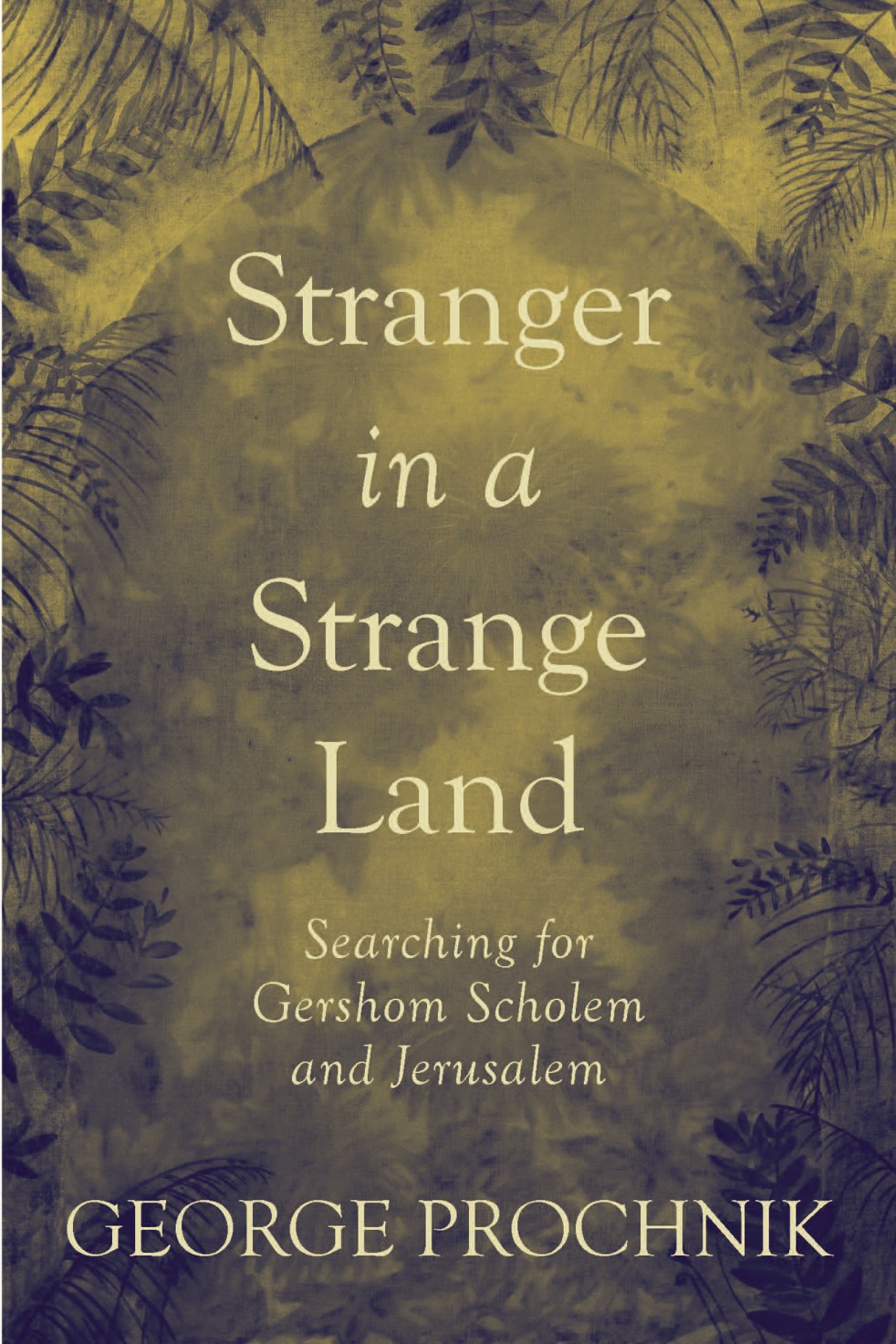
Заглавие книги Ноама Задоффа «Гершом Шолем: Из Берлина в Иерусалим и обратно» дает основания предполагать, что эта биография окажется самой ревизионистской из всех. Шолем назвал свои знаменитые воспоминания о молодых годах «Из Берлина в Иерусалим», но Задофф задается вопросом, почему он закончил рассказ эмиграцией в Палестину в 1923 году, когда здесь все только и началось? Его ответ таков: сионистский поворот, сделанный Шолемом, «был не таким окончательным и бесповоротным, как ему хотелось представить». Личное и интеллектуальное становление Шолема проходило не только в Германии, уверен Задофф; в течение лет, прожитых в Израиле, он все больше и больше разочаровывался в сионистском проекте. Задофф показывает, что с 1949‑го и до конца жизни он в определенной степени все время возвращался в «Берлин», то есть к европейской и немецкой интеллектуальной жизни, которая была для него такой близкой.
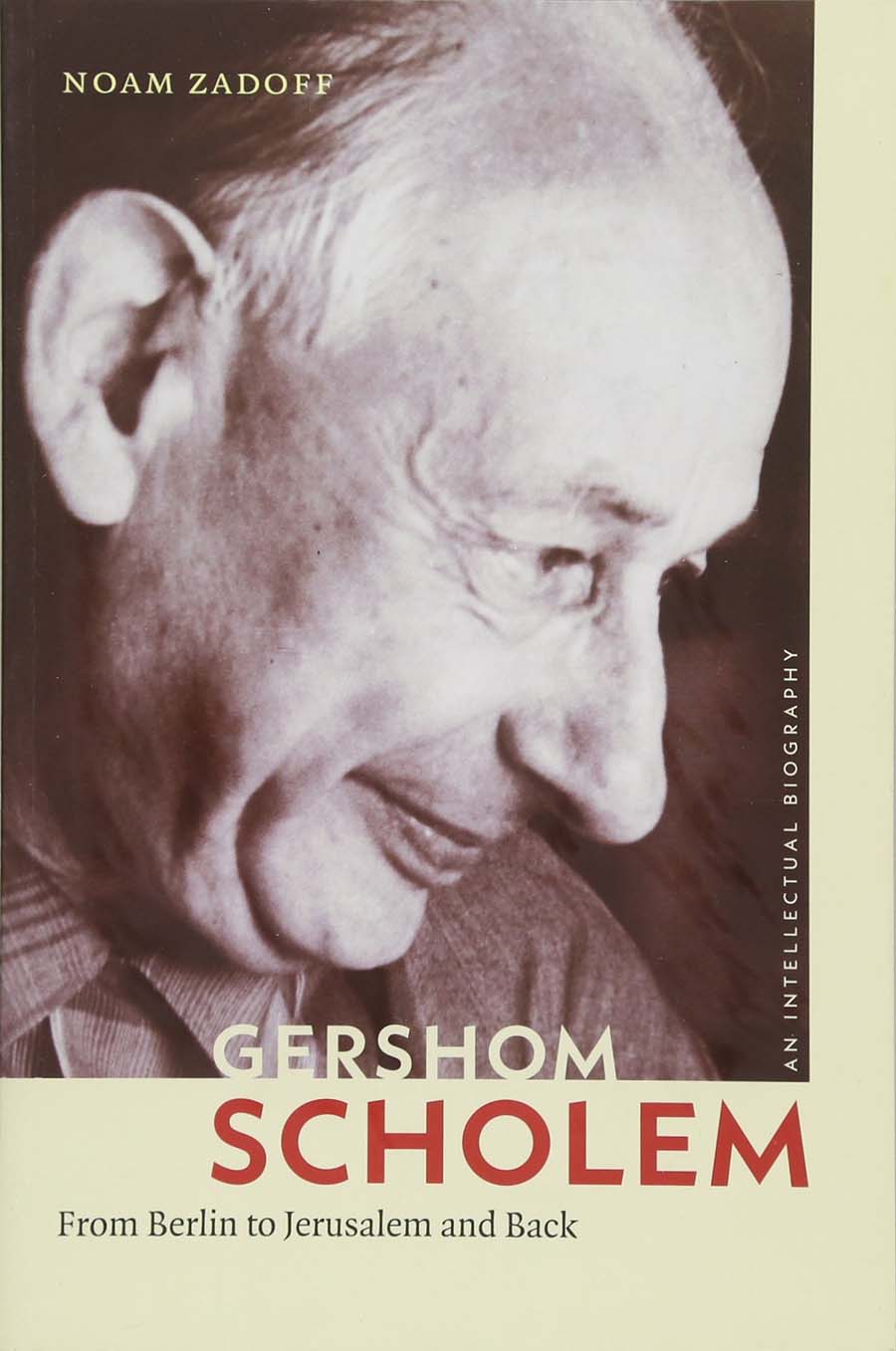
Главным аспектом этого «возвращения» в Европу было его участие в ежегодных конференциях общества «Эранос», проходивших в швейцарском городе Аскона. Шолем ездил туда с 1949 года вплоть почти до конца жизни. Эти конференции проходили под интеллектуальной эгидой Карла Густава Юнга, и поначалу у Шолема были определенные колебания относительно участия, поскольку Юнг когда‑то идеологически тяготел к нацизму. Тот факт, что он преодолел эти сомнения, убежден Шолем, свидетельствует о его желании поддерживать контакт с европейскими интеллектуалами и принадлежать к их числу. Многие из классических синтетических статей, опубликованных Шолемом в последние годы жизни, начинались с докладов на «Эраносе», прочитанных на великолепном немецком языке. И действительно, последнюю книгу на иврите он выпустил в 1957 году!
Время шло, и немецкие организации и интеллектуалы щедро осыпали его наградами и почтением. Среди его многочисленных ипостасей — немецкий еврей, израильтянин, исследователь иудаики, влиятельный интеллектуал — все большее значение приобретала ипостась морального авторитета постнацистской эпохи, образца утраченной гуманистической традиции. Отказавшись от былой двойственности, Шолем все больше и больше чувствовал себя дома именно в Европе. Это биографически понятная, интересная и важная поправка к стандартной биографии Шолема, но не следует слишком увлекаться ею. Невзирая на график поездок и политические разочарования, он всегда сохранял преданность сугубо еврейскому и сионистскому миру «Иерусалима».
Но в этом обсуждении недостает критического элемента. С юношеского возраста и до конца жизни Шолем придерживался своеобразного метатеологического видения сионизма, в котором безоговорочная преданность сочеталась с глубоким презрением ко всем несогласным. Даже наедине с самим собой, замечает Прочник, Шолему всегда нужно было быть против: «Я хочу чего‑то совершенно иного, чем все прочие сионисты», — писал он в 1918 году, и так оно и осталось. Он всегда сочетал фанатическую верность с готовностью к обвинениям. Два полюса его мышления и личности — утопизм и критицизм — сосуществовали в постоянном напряжении. Это напряжение находит отражение и в различных толкованиях, предложенных Шолемом в отношении сионистского наследия, политически правого и политически левого. Йорам Хазони, использующий в качестве универсального мерила сионизма стремление к государственному суверенитету, резко критиковал Шолема и других интеллектуалов из «Брит Шалом», называя их предателями сионистского дела. Но многие из учеников Шолема стали поддерживать поселенческое движение. Критики слева утверждают, что это не случайно, учитывая, что мир Шолема был наполнен такими «иррациональными» категориями, как миф, нигилизм, демонизм и антиноминализм. Амнон Раз‑Кракоцкин считал, что, постоянно напоминая об опасностях политического мессианизма, Шолем «изобразил сионизм в терминах утопического возвращения в Сион (то есть языком мессианизма)». Это стремление к возвращению и избавлению евреев, полагает он, не давало обратить внимание на судьбу палестинцев.

Мощная харизма Шолема, можно даже сказать, его аура, связана с тем фактом, что он был настоящим европейским интеллектуалом, который употребил свой яркий ум и способность объяснять на изложение радикально нового видения, метамифа иудаизма и занялся этим не где‑нибудь, а в Иерусалиме. Как пишет Прочник, «Шолем привез из веймарской Германии в подмандатную Палестину видение Иерусалима, порожденное мышлением Центральной Европы». Это значит, что, хотя Шолем и был похож на других изгнанников того поколения, таких как Вальтер Беньямин, Теодор Адорно, Ханна Арендт и Лео Штраус, которых тоже превознесли до небес (и которые были его реальными собеседниками), из них всех только он выбрал сионизм и Израиль. Общее для них подозрительное отношение к буржуазным условностям, постлиберальное мышление, отказ от любой ортодоксии и увлечение эзотерикой привлекали (и продолжат привлекать) тех, кто убежден в том, что нет простых подходов к проблемам современности. Всех тех, кто ищет новые ответы на проблемы, порожденные банкротством цивилизации ХХ века и предложенных ею учений.
Возможно, и очарование Шолема для современного читателя определенным образом связано с родством, существующим между его интересом к текстуальности, слому, парадоксу и пропасти, и сомнениями и иронией нашего постмодернистского мира. Но в отличие от постмодернистов Шолем всей душой верил в исход, в возможность избавления. «Остатки теократической надежды, — писал он, — сопровождают это возвращение еврейского народа в мировую историю, которое в то же время знаменует истинно утопическое возвращение к его собственной истории». Но эта надежда всегда сопровождалась ноткой провокационности, как он заметил в возрасте почти 80 лет: «Я никогда не прекращал верить, что элемент разрушения со всем заключенным в нем потенциальным нигилизмом всегда составлял основу позитивной утопической надежды».
Хотя Шолем никогда не был историком в обычном смысле слова, ему нельзя отказать, по словам Прочника, «в стремлении вознести интеллектуальную историю и научную метафизику к некоей лирической вершине». Какой еще историк мог без смущения написать, что избавление — это не мессианизм, «секуляризованный в виде веры в прогресс <…> Это скорее трансцендентальное, врывающееся в историю, вторжение, при котором гибнет сама история, превратившись в руины, потому что ее поразила вспышка света из какого‑то внешнего источника»?
Многие аспекты научных представлений Шолема о каббале были подвергнуты суровой критике, и, как это бывает со всеми гигантами, нашлись те, кто хотел бы преуменьшить значение его наследия. С современной точки зрения его интерес к мессианскому мифу, к демонизму, к иррациональным факторам политических опасностей, о которых он предупреждал, каким‑то косвенным образом, может быть, неосознанно, приближал реальность этих опасностей. И все же он остается титанической фигурой. Он появился на сцене в один из критических моментов европейской и еврейской истории и оставил в ней неизгладимый след. После смерти Шолема философ Ханс Йонас писал: «Он был ключевым звеном. Где бы он ни был, он оказывался центром, движущей силой, генератором, который постоянно заряжал сам себя; он был тем, что Гёте называл Urphänomen» . Когда мы увидим еще что‑то подобное? 
Оригинальная публикация: The Secret Metaphysician

Еврейский вопрос у Лайонела Триллинга

Еврейский Кафка: рассказ «Сельский врач»

