Однажды почитатель Франца Кафки подарил ему специально переплетенный томик, содержавший три его рассказа. Кафка отреагировал бурно: «Моя писанина <…> есть не что иное, как материализация моего собственного ужаса… Ее вообще не следует печатать. Ее следует сжечь». В то же время Кафка думал, что у него нет другой цели в жизни, кроме литературы: «Я весь литература, — говорил он, — и ничем иным не могу и не хочу быть» . Безусловно, амбивалентное отношение Кафки к собственному творчеству отражало его глубинную неуверенность в себе. Имел ли он право навязывать миру свои жуткие видения? «Когда не можешь помочь — молчи. Никто не вправе ухудшать состояние пациента своим безнадежным диагнозом» .
Однако именно безнадежность сочинений Кафки обеспечила ему центральное место в литературе ХХ века. Грегор Замза, который проснулся однажды утром и обнаружил, что превратился в насекомое, и Йозеф К., которого неофициальный трибунал судит, не объясняя сути его преступления, стали архетипами современного мира. У. Х. Оден предположил, что Кафка стал для отчужденного и абсурдного ХХ века тем же, чем были в свое время Данте или Шекспир, — писателем, уловившим суть своей эпохи.
Если бы Кафка мог прочесть «Последний процесс Кафки», драматичную и познавательную новую книгу Бенджамина Балинта о судьбе его творчества, он с удивлением узнал бы, что его «писанина» оказалась невероятно ценной — и не только с литературной, но и с финансовой и даже геополитической точки зрения. Главная тема книги Балинта — судебная тяжба по поводу права собственности на некоторые уцелевшие рукописи Кафки, оказавшиеся в руках частных владельцев в Тель‑Авиве. Эта тяжба годами тянется в израильском суде. Поскольку об этом деле много говорили, я никому не испорчу удовольствия от чтения, если скажу, что в 2016 году рукописи забрали у владевшей ими пожилой дамы по имени Ева Хоффе и передали в Израильскую национальную библиотеку.
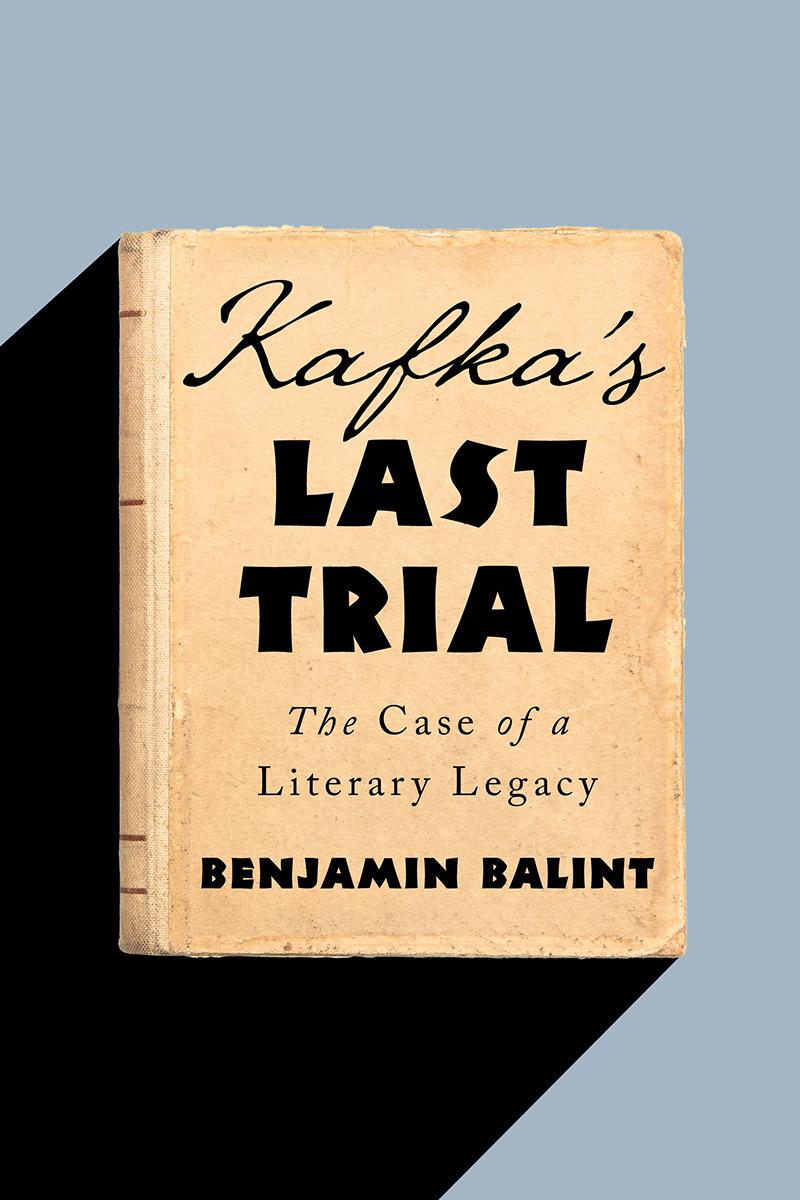
Однако книга Балинта — это далеко не только подробности завещаний и законов. Она поднимает важные вопросы о национальности, религии, литературе и даже Холокосте — три сестры Кафки погибли во время Холокоста, а он сам избежал этой судьбы только потому, что умер молодым от туберкулеза. Хоффе унаследовала рукописи от своей матери Эстер, а той передал их лучший друг и литературный душеприказчик Кафки Макс Брод. Она собиралась продать их в Немецкий литературный архив в Марбахе, где они присоединились бы к рукописям других великих немецких писателей. Это стало бы большой культурной удачей Германии и косвенным подтверждением идеи, что Кафка на самом деле немецкий писатель, хотя он никогда не был гражданином Германии, а был евреем, который родился и жил в Праге. Израильская национальная библиотека доказывала, что творчество Кафки составляет часть культурного наследия еврейского народа, поэтому его рукописи должны принадлежать еврейскому государству.
Когда в 1924 году Кафка умер в возрасте 40 лет, он вряд ли показался бы кому‑то кандидатом на мировую славу. У него была скромная репутация в немецких литературных кругах, но он никогда не был профессиональным писателем. Кафка работал юристом в страховой компании и ненавидел эту работу, хотя справлялся с ней хорошо. Он опубликовал несколько рассказов в журналах и тоненьких сборниках, но, хотя были напечатаны такие шедевры, как «Превращение», «В исправительной колонии» и «Голодарь», большой известности они не снискали. Крупные романы Кафки «Процесс» и «Замок» остались в рукописном виде, незавершенные и не известные миру.
Как известно, автор старался сохранить такое положение вещей. Перед смертью Кафка написал письмо Броду, который нашел его у Кафки в письменном столе. В этом «завещании» Кафка велел Броду сжечь все его рукописи, включая письма и дневники. Но Брод, который обожал Кафку до поклонения, не пожелал выполнить пожелание друга. Вместо этого он посвятил остаток жизни редактированию, изданию и популяризации творчества Кафки и даже написал о нем роман — в его герое Рихарде Гарте легко угадывается Кафка. Тем самым Брод обеспечил бессмертие не только Кафке, но и себе. Хотя сам Брод был успешным и плодовитым писателем, сегодня о нем вспоминают почти исключительно в связи с его ролью в биографии Кафки.

Вопрос о том, этично ли поступил Брод, проигнорировав последнюю волю Кафки, остается одним из самых обсуждаемых в истории литературы, и именно он лег в основу книги Балинта. Как отмечает автор, «Брод был не первым и не последним, кто столкнулся с такой дилеммой». Вергилий хотел, чтобы «Энеиду» сожгли после его смерти, и в этом ему также было отказано. Сохранение произведения вопреки воле автора означает, что творчество принадлежит в большей степени человечеству, чем творцу. Если исходить из сугубо утилитарных соображений, Брод несомненно сделал правильный выбор. Публикация произведений Кафки стала источником удовольствия и повлияла на внутренний мир бесчисленных читателей (и дала работу сотням специалистов по творчеству Кафки); уничтожение их пошло бы на пользу только покойному.
Но неужели Кафка, человек, который «весь был литература», действительно хотел, чтобы его сочинения исчезли? Если внимательно прочитать «завещание» Кафки, оказывается, что этот текст столь же амбивалентен и в такой же мере допускает множество интерпретаций, как и все прочие его произведения. Прежде всего, Кафка по‑разному относится к неопубликованным произведениям и некоторым опубликованным рассказам, которые он называет «действительными». «Я не имею этим в виду, что желаю, чтобы они переиздавались, — добавляет он. — Я только никому не препятствую, раз они уж имеются, сохранить их, если хочется» . Похоже, что Кафка лелеял определенную надежду, что его книги найдут читателя. И назначая душеприказчиком Брода, он выбрал единственного человека, который, как он был уверен, не выполнит его инструкции. Похоже, что Кафка хотел передать потомству свои сочинения, но не хотел нести за это ответственности. «Даже в самоотрицании Кафку терзала нерешительность», — пишет Балинт.
Брод, со своей стороны, не сомневался в важности наследия своего друга. В 1920‑е годы ему удалось найти издателей для «Процесса» и «Замка», но только в 1930‑е у Кафки постепенно стал появляться свой читатель. Успехи нацизма убедили людей, что они действительно живут в кафкианском мире фальшивых законов и бессмысленного насилия — пусть даже нацистский антисемитизм делал невозможным публикацию Кафки в Германии.
Брод бежал из Чехословакии в ту самую ночь, когда нацисты аннексировали его страну, в марте 1939‑го, и забрал с собой рукописи Кафки. Он многие годы был преданным сионистом и теперь направился в Тель‑Авив, где и прожил вплоть до смерти, последовавшей в 1968 году. Из книги Балинта видно, что Броду, как и многим эмигрантам из Германии, нелегко было наладить новую жизнь в Палестине. К его разочарованию, местный литературный мир, который интересовался только литературой на иврите, был к нему равнодушен. Балинт показывает, что в Израиле Кафка никогда не был так популярен, как в Европе и Соединенных Штатах.
Во время процесса немецкие ученые утверждали, что рукописи Кафки должны отправиться в Германию, где их будут интенсивно изучать, а не пылиться в Иерусалиме. Одним из очевидных контраргументов стало утверждение, что странно было бы отправлять наследие Кафки в страну, уничтожившую его семью. Балинт ссылается на израильского исследователя, который едко заметил: «У немцев не очень хороший опыт в области хранения вещей Кафки. О его сестрах они плохо позаботились». Но проблема с тем, чтобы оставить Кафку в Израиле, еще глубже, и у нее есть и литературные, и юридические аспекты. Балинт отмечает, что, отдав бумаги Кафки Израильской национальной библиотеке, судьи «признали, что Кафка на самом деле еврейский писатель». И именно этот вопрос стоит в центре «Последнего процесса Кафки». Он еврейский писатель? Что мы приобретаем или что мы теряем, читая его произведения сквозь еврейскую призму?

С биографической точки зрения еврейство Кафки очевидно. Он родился в еврейской семье и жил в еврейской общине, страдавшей от серьезного и иногда агрессивного антисемитизма. Хотя в семье Кафка почти не получил еврейского образования, он интересовался еврейской культурой. Идишский театр и хасидские сказки стали важным источником влияния для его прозы, а в последние годы жизни он мечтал переехать в Палестину и даже изучал иврит. (Учебники иврита, принадлежавшие Кафке, находятся среди предметов, унаследованных Евой Хоффе.)
Но если не знать, что Кафка был евреем, можно прочитать его книги и не догадаться об этом. Слово «еврей» ни разу не появляется в его творчестве, а его персонажи универсальны: Йозеф К. мог быть кем угодно в современном урбанистическом обществе. И все же многие еврейские читатели — и в том числе критики от Вальтера Беньямина до Харольда Блума — считали, что сочинения Кафки растут из еврейского опыта Центральной Европы и представляют собой определенный комментарий к нему. Кафка принадлежал к поколению евреев, оторвавшихся от идишеязычной среды Восточной Европы, но и не ассимилировавшихся полностью в немецкой культуре, которая относилась к евреям с презрением или враждебностью. В письме Броду Кафка писал, что немецкие еврейские писатели «задними лапками прилипли к еврейству отца, а передними не могли нащупать никакой новой опоры» .
И если начать искать таких персонажей в творчестве Кафки, окажется, что они повсюду. Пленная обезьяна из «Отчета для Академии», которая мучительно пытается вписаться в мир людей; героиня рассказа «Певица Жозефина, или Мышиный народ», которой писклявое искусство помогает поддержать ее гонимый народ; Йозеф К. из «Процесса», которого судят по странным и непостижимым законам, — все они представляют собой отклик на затруднительное положение Кафки как еврея. Прежде всего, одержимость Кафки идеей закона и проблемами юридических систем, действие которых кажется непостижимым, — в них есть нечто богословское, продукт осознания того, что еврейский закон безвозвратно утрачен.
И все же гений Кафки позволил ему предвидеть, что этот еврейский опыт — то, что Балинт называет его «упрямой бездомностью и несопричастностью», — также представляет собой архетипический опыт времени. В ХХ столетии состояние оторванности от традиции, ощущение, что тобой манипулируют враждебно настроенные институты, и постоянный риск внезапно стать жертвой насилия преследуют практически каждого. По словам Бертольда Брехта, творчество Кафки — это своего рода предостережение, он описывает «будущие концентрационные лагеря, будущее непостоянство закона <…> скованную, мало мотивированную, путаную жизнь множества отдельных лиц» . Писатель, чье имя впоследствии станет описывать целый феномен, выступает как пророк, дающий имя опыту, который ждет каждого из нас. Поэтому на самом деле не так уж важно, где будут храниться рукописи Кафки: в Германии или в Израиле. Важно то, что мы все живем в кафкианском мире. 
Оригинальная публикация: Who Gets to Claim Kafka?

Пруст и Дрейфус

Кафка: введение

