Материал любезно предоставлен Tablet
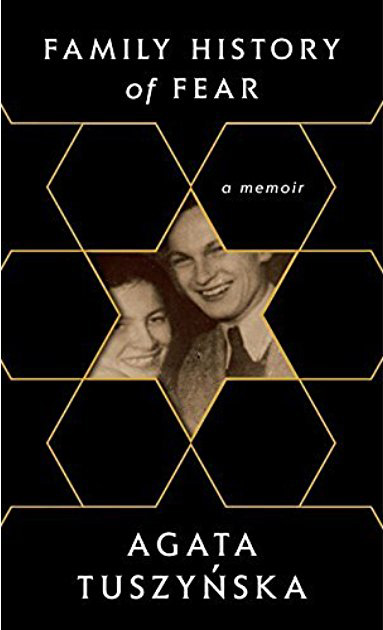
Agata Tuszyńska
Family History of Fear [Семейная история ужаса]
Knopf, 2016. 400 pp.
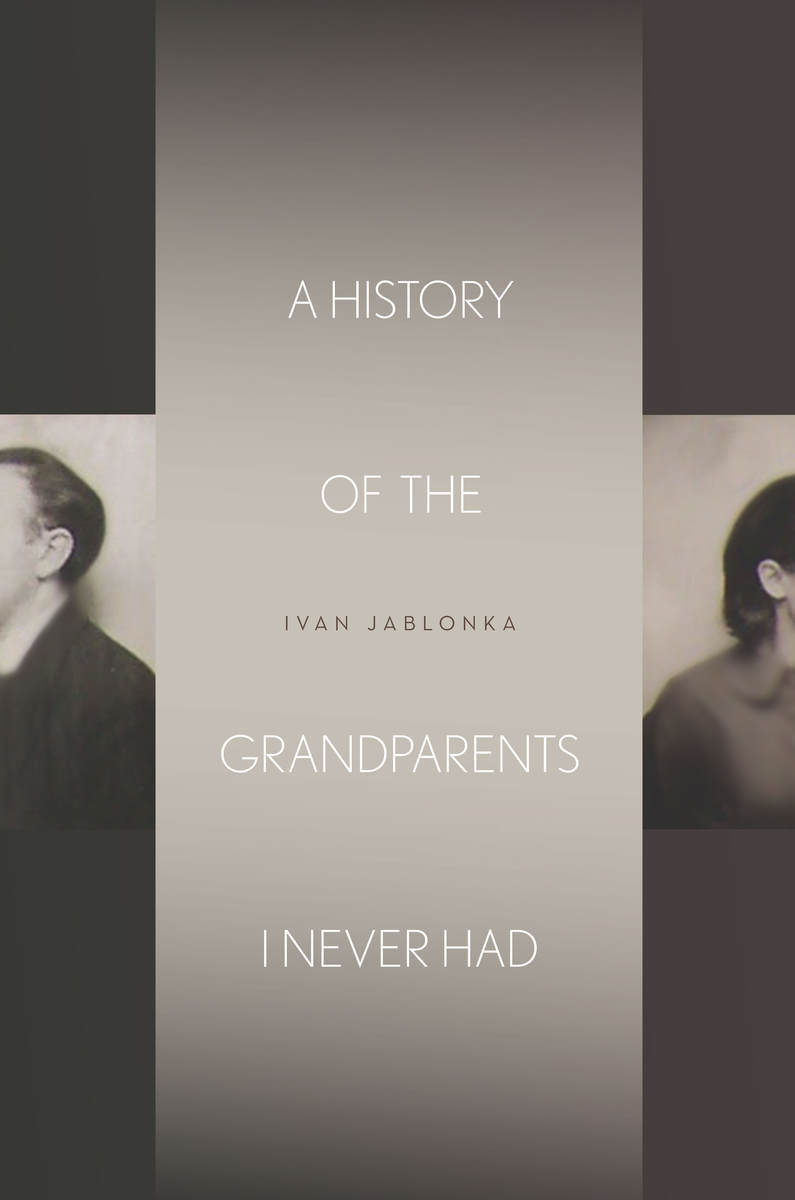
Ivan Jablonka
A History of the Grandparents I Never Had [Истории бабушки и дедушки, которых у меня никогда не было]
Stanford University Press, 2016. 352 pp.
В феврале, после выигрыша праймериз в Нью‑Гемпшире, сенатор Берни Сандерс выступил с речью, в которой назвал себя «сыном польского иммигранта». Это не было совершенной ложью. Отец Сандерса Эли действительно приехал в Америку из Польши в возрасте семнадцати лет. Но это также не было совершенной правдой. Ведь «польский еврей» не является и никогда не был просто поляком, как старательно подчеркивали многие евреи. Напротив, с ХIV столетия, когда массы евреев начали селиться в Польше по приглашению Казимира Великого, и до 1939 года, когда Холокост уничтожил 90% от 3,5 млн польских евреев, ни евреи, ни поляки не сомневались в том, что они — два разных народа, которым приходится делить одну страну. Они могли быть соседями или партнерами по бизнесу, но редко друзьями, почти никогда родственниками и вовсе никогда людьми, равными с юридической или социальной точки зрения. Только амнезия позволяет американским евреям стирать черту, которая была ослепительно яркой в ходе истории.
Но не только американские евреи испытывают трудности в определении места Польши в еврейской истории. Сегодня корни почти каждой общины евреев‑ашкеназов находятся в Польше (хотя география исторической Польши только частично совпадает с современными политическими границами). Только в конце XIX столетия евреи Польши, которая тогда не была не самостоятельным государством, а исключительно территорией, разделенной между русской, австрийской и прусской коронами, хлынули из нее миллионами, подгоняемые бедностью и усиливающимися гонениями. Это означает, что евреи всех стран не далее как в четвертом поколении покинули Польшу, что Польша — наша общая мать, но мать настолько жестокая, что мы рады своему бегству. Когда потомки ирландских или итальянских (или польских) эмигрантов навещают свои старые страны, они находят там родственников или родовые деревни. Когда евреи возвращаются в Польшу, им не на что здесь смотреть, кроме Освенцима.
И однако, как показывают нам две недавно опубликованные книги, именно ускользающий характер польского еврейского прошлого делает его понимание столь насущным. Речь идет о книге Ивана Яблонки «Истории бабушки и дедушки, которых у меня никогда не было» и о книге Агаты Тушиньской «Семейная история ужаса». Биографии авторов различны. Яблонка — француз, профессор истории Парижского университета, тогда как Тушиньская, поэт и биограф, выросшая в Варшаве, дочь католика и еврейки. Первый далек от Польши в культурном и географическом смысле, тогда как вторая все еще живет недалеко от домов своих предков. Но оба, путешествуя в прошлое, преодолевают огромное расстояние, интеллектуальное и эмоциональное. Они плывут против потока забвения, не обычного забвения, размывающего образы предков, но умышленного стирания, каким и был Холокост для евреев Европы.
Для Агаты Тушиньской, родившейся в 1950‑х, такое стирание приняло форму сокрытия. Только когда ей исполнилось девятнадцать, ее мать, Галина, отрыла ей тайну ее рождения. В современной Америке кажется странным скрывать еврейское происхождение. Но в коммунистической Польше, говорит Тушиньская, это было нормально. «Мать не хотела обременять меня тем, что я не смогу вынести. Она не хотела, чтобы ее ребенок рос с чувством несправедливости и страха».
Действительно, одна из тем «Семейной истории ужаса» — демонстрация страха антисемитизма, который даже сегодня является рациональной эмоцией в Польше. В одном из самых ошеломляющих эпизодов книги Тушиньская находит польскую пару, укрывшую маленькую девочку, ее мать, во время Холокоста. Сын этой супружеской пары, теперь старик, вспоминает еврейскую девочку, которая жила с ними: «Она обычно выгоняла коров на пастбище и спала в соседней комнате». Потом он взорвался: «Зачем было это делать это? Почему моя мать рисковала всей семьей? Зачем это все? Что они делают с нами теперь? Это стыд и позор, что евреи господствуют в мире. Я не знаю, почему мы должны были спасать их».
Евреи могут наивно полагать, что быть Праведником народов мира — это основание для гордости, знак чести. Для этого поляка, однако, спасение евреев выглядело глупостью, уловкой жидовского обмана. И он не единственный такой персонаж «Семейной истории ужаса». Когда Тушиньская навещает городок Ленчицу, родину своих предков, она встречает кузнеца, объясняющего ей, что евреи, которые когда‑то здесь жили, совершали ритуальные убийства, используя кровь польских детей для приготовления мацы. Он уверял ее, что это не пустопорожние разговоры. В соседнем городе кто‑то написал на стене: «Евреи грабят эту страну». Можно подумать, что польские антисемиты вздохнули с облегчением. В стране, где когда‑то жили три с половиной миллиона евреев, осталось двадцать тысяч. Но ненависть переживает свой предмет. Подобно фантомной боли, исчезнувшие миллионы евреев преследуют тело польской политики.

Конечно, это далеко не вся Польша. Поляком является учитель истории Мирек, сохранивший записи евреев Ленчицы и помогавший Тушиньской найти следы своих предков. «Чтобы освободиться от предрассудка, старого и широко распространенного, нужно иметь мужество независимого мыслителя», — пишет Тушиньская. Поляком был тот, кто во время войны, рискуя своей жизнью, спас многих родственников Тушиньской, в том числе ее мать, из Варшавского гетто. Это Александр, «Олесь» Мажевский, католический муж тети Франи, двоеженец и ловелас, не испытывающий особого расположения к евреям в принципе, но рисковавший жизнью, чтобы переправить семью своей жены на «арийскую часть» оккупированного города. «Без Олеся <…> от нас не осталось бы следов», — пишет Тушиньская. «Я никогда бы не пришла в этот мир, потому что моя мама и ее мама <…> никогда бы не выбрались из гетто». И, однако, она замечает что, став старше, никогда не видела, чтобы еврейские родственники относились к Олесю с особенным теплом. «Неужели они забыли, что он сделал для них?.. Они приняли спасение из рук Олеся и со временем стали считать это нормальным. Само собой разумеющимся. Это не требует вечной признательности».
Другая двойственность преследует брак родителей Тушиньской. Галина, ее мать, встретила Богдана, ее отца, когда они были студентами факультета журналистики Варшавского университета в начале 1950‑х. Галина была типичной еврейкой, хотя ее и крестили после войны по соображениям безопасности, а Богдан был типичным поляком, голубоглазым блондином. Но их объединила вера в коммунизм, в котором они видели новое общество, преодолевающее различия прошлого. Очевидно, Богдан не был антисемитом. И, однако, Тушиньская вспоминает, что в ее детстве отец позволял себе антисемитские замечания: «Для него евреи были причиной, неопределенной, но повсеместной, всего, что шло не так, как следует… Он считал их ответственными за каждый непопулярный закон, за каждую проблему на работе, за нехватку новых шин для своего автомобиля».
«Я не понимала, что все это значит», — пишет Тушиньская. «Я никогда не встречала ни одного еврея». За исключением, конечно, собственной матери, еврейство которой все еще было тайной. Как часто случается с семейными тайнами, что‑то казалось недостающим, спрятанным, неправильным. «Ощущение того, что ты хуже, чем другие, было поверхностным, но я никогда не могла понять, откуда оно пришло», — пишет она. «Я должна была тяжело работать, чтобы быть лучше, чем другие. Это было действительно важно, и многое зависело от этого». Действительно, матери, вероятно, казалось, что сама их жизнь зависит от того, насколько они хорошие польские граждане, что значило в ту пору — хорошие коммунисты.
«Семейная истории ужаса» — это не только семейная история Тушиньской, но и исполненная горькой иронии история взаимоотношений евреев с коммунизмом. Для части евреев при царизме в начале ХХ столетия коммунизм выглядел избавлением от бедности и антисемитизма. Быть коммунистом значило преодолеть свое еврейство, сделать его неважным. Вот почему евреи‑коммунисты оказались самыми ожесточенными врагами иудаизма и еврейской культуры. И, хотя только небольшой процент евреев были коммунистами, лидеры коммунистов оказались достаточно заметными, чтобы в головах многих поляков «еврей» и «коммунист» стали синонимами. Это помогло разжечь польский антисемитизм во время Холокоста, и, когда коммунисты пришли к власти после войны, евреи заплатили за улучшение своего юридического и социального статуса ненавистью большей части поляков.

В конце концов ненависть восторжествовала. Антисемитская кампания 1968 года, закамуфлированная не в последний раз языком антисионизма, вышвырнула остатки евреев из Польши.
В «Семейной истории ужаса» мы видим, как эта трагическая динамика разворачивается в жизни Самуила, дедушки Тушиньской со стороны матери. Он выжил во Второй мировой войне, потому что был офицером польской армии и попал в плен к немцам в сентябре 1939 года. Это означало, что он содержался полуживым в лагере для военнопленных, но не был ликвидирован как еврей. После войны Самуил вырос до должности чиновника правительства, ответственного за восстановление разрушенной Варшавы, и был верен и благодарен Коммунистической партии. Но в 1968 году, в ходе антисемитской кампании, его выдворили с работы. Друзья перестали с ним разговаривать, и однажды он обнаружил, что ручка его двери покрыта фекалиями. Коммунизм не разрушил антисемитизм в Польше, вместо этого он создал новые формы и новые причины.
Для Тушиньской надежды еврейских коммунистов умерли в 1968‑м. Но в глазах Ивана Яблонки роман евреев с коммунизмом до сих пор содержит в себе нечто возвышенное и благородное. Ему радостно сознавать, что «дедушка и бабушка, которых он никогда не знал», Матес и Идесса Яблонка, выросли в межвоенной Польше убежденными коммунистами. Они даже сидели в польской тюрьме как политические заключенные. «Эти современные Прометеи пытались разрушить статус‑кво и дать волю благословению свободы во всех ее формах», — пишет он. События не развивались таким образом, конечно. Даже в 1930‑х годах, когда Матес и Идесса развешивали плакаты и распространяли листовки, люди, знавшие советскую реальность, понимали, что коммунизм был враждебен «свободе». Но Яблонка, как многие евреи, восхищается идеализмом своих предков‑коммунистов. «Было бы иллюзией полагать, что их стремления были иллюзией», — пишет он, хотя и признает, что «свобода Матеса и его голос были отравлены тоталитаризмом». Яблонка — профессиональный историк, и одним из достоинств его книги является демонстрация ремесла историка в действии.
В 2007 году он задумал написать о Матесе и Идессе, погибших в Холокосте, в то время когда Марсель, отец Яблонки, был ребенком. Вначале он знал только то, что они проделали путь из Польши во Францию в конце 1930‑х годов и во время нацистской оккупации были депортированы из Парижа в Освенцим. И все же он обнаружил, что даже самые ординарные биографии оставляют следы. Следов от его бабушки и дедушки, много общавшихся с правительственной бюрократией, оказалось на удивление много. Остались записи судебного разбирательства Матеса и заключения его в тюрьму в Польше в 1933 году. По иронии судьбы в тюрьму его привело не намерение свергнуть правительство, а план нападения на местную сионистскую партию. Между еврейскими националистами и еврейскими интернационалистами всегда существовала непримиримая вражда.
Существуют свидетельства о том, что после прибытия Матеса и Идессы во Францию в качестве нелегальных иммигрантов в 1937‑м иммиграционная системая неоднократно предпринимала попытки выслать их, но безуспешно. Архивы показали, что в 1939 году Матес поступил во Французский иностранный легион, намереваясь сражаться с Гитлером и надеясь получить французское гражданство. Используя воспоминания и опубликованные истории, Яблонка проследил путь полка, в котором служил его дедушка. Это подразделение в основном состояло из еврейских и испанских беженцев, не прошедших воинскую подготовку. Они были брошены на передовую во время немецкого блицкрига в 1940‑м и демобилизованы после падения Франции.
К несчастью, Матес вернулся в Париж, в оккупационную зону, к ждавшим его жене и детям. Яблонка использует данные переписи, чтобы найти имена всех обитателей многоквартирного дома, где они жили, и телефонные директории, чтобы проследить судьбы их потомков. Это позволило ему сделать описание всего здания, комнаты за комнатой, где Матес и Идесса провели свои последние месяцы. Сверяясь с полицейскими записями, он смог предположительно воссоздать последовательности событий, которые привели к аресту супружеской пары рано утром 25 февраля 1943 года. Его отец Марсель, которому было три года, спасся. Его и его старшую сестру Сюзанну каждую ночь отправляли в соседнюю квартиру на случай такого предрассветного рейда. Их сосед, поляк‑католик, спрятал детей от полиции и передал друзьям семьи, которые в свою очередь вверили их французской паре Курто, жившей в Бретани. Как и Тушиньская, Яблонка жив сегодня только благодаря героизму Праведников народов мира, которые рисковали жизнями для спасения евреев.
Можно ожидать, что исследование Яблонки закончится у ворот Освенцима. Конечно, лагерь смерти — это черная дыра, в которую не проникает никакой свет. И тем не менее Яблонка смог воссоздать удивительно полную картину того, что случилось с Матесом и Идессой после депортации. Благодаря тому что нацисты вели скрупулезный учет, он точно знает, каким транспортом и когда они прибыли в Освенцим. Точно не известно, когда умерла Идесса, но случайные встречи с пережившими войну позволили узнать, что Матес выжил в первоначальной селекции на перроне и был назначен на самую ужасную работу в лагере — в зондеркоманду, отвечающую за функционирование газовых камер и крематория.
Это такая информация, которую внук, даже будучи историком, был бы счастлив не знать. «Жизнь в прошлом, особенно в таком прошлом, может свести с ума», — признается он. Даже знание всех фактов из жизни дедушки и бабушки не позволяет понять, что́ они любили, что́ думали и чувствовали. Это останется навсегда скрытым. «Вся сумма наших действий не раскрывает нас такими, какие мы есть, а случайно собранная информация не говорит почти ничего», — написал он в конце книги. Но Яблонка и Тушиньская свидетельствуют, что даже это «почти ничего» драгоценно. Если люди, целый народ, пережили такие страшные потери, они благодарны за подтверждение, что их прошлое действительно существовало. Это способ напомнить самим себе то, в чем они, должно быть, иногда сомневаются, — реальность собственного существования.

Собиборский скандал: русофобия? бюрократия? провокация Кремля?

The New York Times: Карусель: иски по реституции для переживших Холокост в Польше

