Материал любезно предоставлен Tablet
Германия в 1930‑х годах: великий математик Абрахам Френкель вспоминает о том, с какими трудностями он и его коллеги‑евреи сталкивались в годы постепенного утверждения нацизма в Германии. Абрахам Френкель родился в Германии в 1891 году и умер в Израиле в 1965‑м в возрасте 74 лет. Его «Воспоминания еврея‑математика в Германии» были переизданы недавно в английском переводе издательством «Springer». Читателям «Лехаима» предлагаем ознакомиться с избранными страницами.
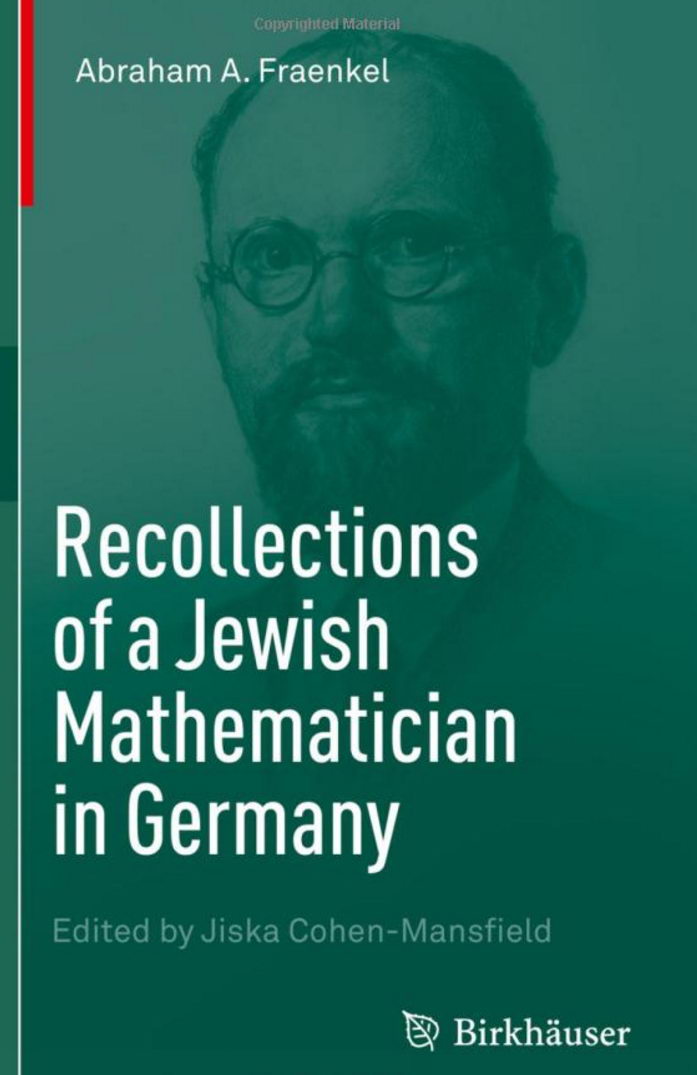
Мой рассказ об этом последнем периоде моей жизни в Германии был бы неполным без описания некоторых людей, которые во всех отношениях достойны внимания. Первыми мне на ум приходят восемь ученых. Разумеется, я не могу и не хочу писать их биографии или перечислять их научные достижения — все это можно легко найти в других местах. Вместо этого я расскажу прежде всего о том, что было важно для моего собственного развития. Из этих восьми ученых четверо математиков — Гильберт, Брауэр, Ландау и фон Нойман, два физика — Эйнштейн и Нильс Бор и два протестантских теолога и философа — Рудольф Отто и Генрих Шольц.
В свое время Давид Гильберт (1862–1943) был самым значительным математиком в мире. Долгое время он делил это место с Анри Пуанкаре, который умер в 1912 году. В отличие от большинства его коллег, занимавшихся какой‑либо одной темой, Гильберт в разные периоды жизни делал открытия во многих областях чистой математики. Он практически не занимался прикладной математикой, за исключением одного не слишком удачного периода, посвященного физике. Он родился в Кенигсберге и никогда так и не избавился от своего восточнопрусского акцента. Про него ходило бесчисленное множество историй, поскольку он, без сомнения, был большим оригиналом. Гильберт стал профессором в Геттингене в 1895 году и отклонял приглашения в Лейпциг, Берлин, Гейдельберг и Берн. Он совершенно справедливо считался научным главой немецких математиков и пользовался признанием по всему миру. Студенты стекались к нему со всей Европы и из Соединенных Штатов. На Втором международном конгрессе математиков в Париже в 1900 году он прочел программную лекцию «Математические проблемы». Он перечислил 23 ключевые нерешенные проблемы, и этот список во многом предопределил развитие математики в последующие десятилетия. С тех пор большинство из этих проблем было решено, проблема № 1 — Полом Коэном в 1963 году.
Гильберт всегда был свободен от каких бы то ни было национальных или расовых предрассудков. С начала ХХ века у него было много студентов‑евреев — как в абсолютных цифрах, так и в процентном соотношении. Сам он в своей работе испытал значительное влияние двух евреев — Адольфа Гурвица и Германа Минковского. Его авторитет и настойчивость дважды победили предубеждение против назначения евреев на штатные профессорские должности, царившее в прусском министерстве образования и культуры в предвоенные годы. Благодаря Гильберту Минковский стал профессором в 1902 году, Ландау в 1909‑м. Он добился того, чтобы Эмми Нотер прошла хабилитацию и получила вторую докторскую степень в Геттингенском университете, несмотря на возражения многих коллег, в том числе нескольких евреев; впрочем, эти возражения были вызваны преимущественно ее полом, а не еврейством и не коммунистическими взглядами. Ответ Гильберта на вопрос Бернгарда Руста, нацистского рейхсминистра науки, образования и народной культуры, был для него вполне типичен. На банкете в Геттингене в 1934 году Руст спросил Гильберта: «Правда ли, господин профессор, что ваш институт очень пострадал из‑за отъездов евреев и их друзей?» На что Гильберт ответил на своем восточнопрусском диалекте: «Пострадал? Нет, он не пострадал, господин министр. Он просто больше не существует!»

Я никогда не учился в Геттингене и никогда не был студентом Гильберта, лишь по счастливой случайности мне, тем не менее, удалось установить с ним довольно близкие отношения. Последний период его научного творчества, начавшийся в 1918 году, был посвящен аксиоматике и основам математики в целом. Совершенно независимо от него в 1921 году я занялся аксиоматикой теории множеств, фундаментальной математической дисциплины, которой Гильберт всегда придавал огромное значение и создателя которой Георга Кантора защищал от резкой критики. Очень талантливый помощник и близкий сотрудник Гильберта Пауль Бернайс (потомок известного гамбургского талмудиста хахама Ицхака Бернайса), с 1933 года преподававший в Швейцарском институте технологии в Цюрихе, в 1935‑м сосредоточился именно на теории множеств. Поскольку я тоже занимался теорией множеств, Гильберт попросил меня в 1922 году прочесть лекции в Геттингенском математическом обществе. В подобных случаях Гильберт всегда выступал с безжалостной и в то же время объективной критикой лектора, но тут он, должно быть, впечатлился моими результатами и горячо похвалил мое выступление. В дальнейшем наше общение было в основном письменным. Хотя он принял мое приглашение выступить с лекцией в Киле, по независящим от нас обстоятельствам эта лекция так и не состоялась. Когда вышло третье издание моей книги «Основы теории множеств» («Einleitung in die Mengenlehre»), я получил от него очень сердечное письмо, собственноручно написанное. Уже гораздо позже я узнал, что место штатного профессора в Киле в 1928 году я получил во многом благодаря ему — министерство запрашивало его мнение о разных кандидатах.
В голландском математике Лейтзене Эгберте Яне Брауэре (1881–1966) можно видеть решительного противника Гильберта. Его заслуги в математике сводятся к двум, но очень важным достижениям. В 1911–1914 годах он разрешил несколько сложных проблем в топологии, связанных с понятием размерности; однако это было лишь ответвлением его работы в математике. Еще раньше, а также позже, в 1918–1930 годах, он разработал оригинальное учение, названное им интуиционизмом, а позже — неоинтуиционизмом, в котором он отвергает бóльшую часть «классической» математики последних трех столетий, а также «классическую» аристотельянскую логику, утверждая, что это отчасти бессмысленные, отчасти неверные учения, поскольку основаны они на «существовании», а не на «конструировании».

Его точка зрения была отвергнута подавляющим большинством математиков и логиков. Его споры с Гильбертом, в частности, приняли личный характер. Эти двое буквально топили друг друга своими репликами. Тут был еще такой нюанс: получалось, что голландец Брауэр стал поборником арийской немецкости. В результате Гильберт исключил его из редколлегии «Mathematische Annalen» после того, как Брауэр выступил против того, что там печатается слишком много, по его мнению, восточноевропейских еврейских авторов (Ostjuden). В 1922 году Брауэр опубликовал открытое письмо голландскому министру образования с протестом против того, что выдающемуся французскому ученому Арно Данжуа, который был профессором в Университете Утрехта и членом Амстердамской академии наук, дозволяется сохранять членство, при том, что тот ведет себя, по мнению Брауэра, как «агент французского правительства». Брауэр также открыто выступал против участия в Международном конгрессе математиков в Болонье в 1928 году, утверждая, что многие немецкие ученые, которые под руководством Гильберта участвовали в конгрессе наряду с французами, «оскорбляют память Гаусса и Римана». К счастью, инстинкт спас его — в отличие от другого выдающегося голландского математика — от того, чтобы согласиться на должность в Берлинском университете, которую нацисты предлагали ему в 1933 году.
Я часто общался с Брауэром, особенно в Амстердаме, и был среди первых математиков вне Голландии, которые обсуждали его теорию интуиционизма в своих лекциях, статьях и книгах, зачастую в критической форме. Поначалу Брауэр отзывался обо мне с большим энтузиазмом, но затем я стал вызывать у него сильную неприязнь. Я обратился к его теории интуиционизма первым, но мой анализ был далеко не самым глубоким. С 1930 года многие выдающиеся математики из Голландии, Соединенных Штатов и других стран вычленили из идей Брауэра все, что имело смысл и не было отягощено догматичными предубеждениями, было проницательным и инновационным также и в классической математике.
В 1945 году Брауэр был временно отстранен от работы голландским правительством по причине его связей с нацистами, особенно во время немецкой оккупации Голландии, когда голландские евреи подвергались крайне жестокому обращению и большинство из них было истреблено в лагерях. Впоследствии Брауэр был восстановлен в должности. Я счел невозможным возобновить наши прежние дружественные отношения.
Эдмунд Ландау (1877–1938) также был большим оригиналом. В 1920‑х годах он взял себе среднее имя Йехезкель в часть пражского раввина и талмудиста Йехезкеля Ландау, чей брат был его предком. Отец Эдмунда Ландау Леопольд Ландау был известным в Берлине врачом‑гинекологом; изначально он был довольно далек от иудаизма, но со временем стал придерживаться национально‑еврейской позиции и поддерживать Еврейскую колонизационную ассоциацию в Палестине. Он с гордостью показывал мне ивритские надписи во дворе своего дома неподалеку от Паризер‑плац в Берлине.
Ландау был одним из самых плодовитых ученых своего времени. Только в 1904–1909 годах он опубликовал более 50 статей, в том числе несколько очень крупных, и двухтомную новаторскую книгу о распределении простых чисел. Его основными областями исследования были теория функций и аналитическая теория чисел. Он работал вместе с выдающимися английскими математиками Г. Х. Харди и Джоном Эденсором Литлвудом, с Гаральдом Бором, братом Нильса Бора, и многими другими. Со временем он выработал лапидарный, концентрированный стиль письма: не только в своих статьях, но и в книгах он полностью убирал интуитивную часть своих математических размышлений — согласно традиции, впервые предложенной Гауссом. Не всем нравился этот стиль, особенно если речь шла о таких сложных предметах. Но при этом он не был лишен чувства юмора, как видно из его предисловий к «Основам анализа» — книге, которая пользовалась популярностью как в немецком, так и в английском своих вариантах.
В 1899 году Ландау закончил свой докторат, а в 1901‑м, в 24 года, прошел хабилитацию; обе степени он получил в Берлинском университете. После преждевременной смерти Минковского Гильберт хотел поставить на его место первоклассного преемника, от которого он ожидал творческих талантов. И так произошло, что в 1909 году, в возрасте 32 лет, Ландау получил место профессора в Геттингене. Это было во всех смыслах крайне необычное назначение; в частности, Ландау перескочил через тогда повсеместный промежуточный этап — должность внештатного адъюнкт‑профессора (Extraordinarius).
Как профессор он пользовался большим успехом, докторанты съезжались к нему со всего мира. Но его отношения с Гильбертом развивались не так хорошо, как ожидалось. После того как Феликс Клейн, прозванный «математическим министром иностранных дел», ушел на пенсию, Гильберт назначил его преемником математического аналитика еврея Рихарда Куранта. В заслугу Куранту ставят прежде всего то, что после Первой мировой войны он создал престижный Геттингенский математический институт и привлек для него финансирование из Соединенных Штатов. В 1933 году предпринимались особые усилия, чтобы удержать Куранта, но, к счастью для него, ему предложили более высокую академическую и административную позицию в Нью‑Йоркском университете.
Горячее желание Ландау получить профессорскую должность в Берлине не сбылось. Из‑за своего сложного характера он нажил много врагов; одним из таких был Людвиг Бибербах, с 1921 года — штатный профессор в Берлине. Благодаря средствам своих родителей и кузена Пауля Эрлиха Ландау был богатым человеком. В Геттингене он построил себе особняк, где разместил свою огромную научную библиотеку. Не раз бывая у него в гостях, я имел возможность восхититься роскошными интерьерами его дома. Кроме математики, которой Ландау занимался с неослабным усердием, у него было два хобби: в свободное время он с большим увлечением читал детективы, а кроме того, у него была обширная и, вероятно, ценная коллекция почтовых марок, которую он регулярно пополнял.

После создания в 1925 году Еврейского университета в Иерусалиме, куда изначально входили три института, заговорили о том, что естественно было бы открыть там также профессуру по математике, которая часто называлась еврейской наукой. Помимо двух математиков с мировым именем — Жака Адамара и Эдмунда Ландау — в попечительский совет университета входил также Зелиг Бродетский, который с 1924 года был профессором прикладной математики в Университете Лидса и как сионистский лидер оказал большую услугу университету. Поначалу Эйнштейн также был членом попечительского совета, но вскоре вышел из него. В сентябре 1925 года, вскоре после 14‑го Сионистского конгресса, прошедшего в Вене, попечительский совет Еврейского университета собрался в доме доктора Элиаса Штрауса в Мюнхене. На повестке дня среди прочих стоял вопрос о назначении профессора математики. Насколько я понимаю, это было последнее (если не единственное) заседание попечительского совета, на котором присутствовал Эйнштейн. Я тоже в тот момент был в Мюнхене, где умирал мой отец, и Ландау навестил меня. Очевидно, обсуждался такой вариант, что Ландау поедет в Иерусалим либо временно, либо надолго. Когда ему предложили эту должность, он был готов принять предложение. Хотя он и не был воспитан в еврейской традиции, а тем более в религии, он в свойственной ему энергичной манере принялся учить иврит и удивительно быстро выучил, в частности стал свободно на нем разговаривать. И осенью 1927 года он отправился в Иерусалим в качестве первого в Еврейском университете профессора математики. Адъюнкт‑профессором при нем был доктор Биньямин Амира, выросший в Палестине (Земле Израиля) и защитивший докторскую в Женевском университете. Ландау успешно учил полных энтузиазма студентов в течение одного семестра.
Здесь не место обсуждать разногласия, возникшие у Ландау с руководством университета и попечительским советом. Как бы то ни было, в конце семестра Ландау покинул Иерусалим и более туда не вернулся. И попечительский совет, собравшись в следующий раз в июне 1928 года в Лондоне, вновь вынужден был выносить на повестку дня вопрос о назначении профессора математики.
Эдмунд Ландау, как и Гильберт, уделял внимание моим довоенным публикациям и следил за моей работой с начала 1920‑х еще более тщательно, хотя я занимался областью, сравнительно далекой от его интересов. В 1927 году, когда я еще был внештатным адъюнкт‑профессором (Extraordinarius) в Марбурге, он осторожно заговаривал о своем намерении предложить попечительскому совету мою кандидатуру на должность профессора математики в Иерусалиме. Я не относился к его идее вполне серьезно, особенно когда узнал, что Адамар хочет предложить кандидатуру выдающегося польско‑французского аналитика Шолема Мандельбройта; кроме того, и сам Ландау порядком колебался, отправляясь в Иерусалим. Поэтому я был очень удивлен, когда 5 июня 1928 года мне в Киль, где я за несколько недель до этого получил профессорскую должность, пришла телеграмма из Лондона с предложением профессуры в Иерусалиме. Как Ландау впоследствии объяснил мне, Мандельбройт решил не уезжать из Франции, поэтому его кандидатура даже не рассматривалась. И действительно, немногим позже он получил должность в Париже, став преемником Адамара в Коллеж де Франс. За меня попечительский совет проголосовал единогласно, даже физик Леонард Орнштейн из Нидерландов поддержал мою кандидатуру.
В те годы я особенно сблизился с Ландау, одной из причин этого сближения стало его увлечение ивритом и успехи в нем. Он даже отправлял мне телеграммы на иврите из Геттингена в Марбург! Моя последняя встреча с Ландау состоялась в Швейцарии вскоре после прихода нацистов к власти. В отличие от Куранта он не был испуган, скорее, наоборот, — преисполнен непостижимого оптимизма. Но удар настиг его скоро — даже раньше, чем других профессоров‑евреев. Геттингенские студенты, явно подстрекаемые сверху, протестовали против него и требовали его отставки. Одна лекция проливает свет на причины этого «решительного неприятия» Ландау. Эту лекцию прочел берлинский профессор Людвиг Бибербах весной 1934 года в Берлине на ежегодной конференции Организации поддержки преподавания математики и естественных наук (Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts). Пресса — к примеру «Немецкое будущее» («Deutsche Zukunft») от 8 апреля 1934 года или «Исследования и прогресс» («Forschungen und Fortschritte») от 20 июня 1934 — подробно освещала эту лекцию. Вот несколько отрывков из нее:
Поведение геттингенских студентов в отношении Эдмунда Ландау вполне обоснованно и оправданно, поскольку случай Ландау наглядно показывает, что есть немецкая математика и есть еврейская математика — два мира, разделенных непреодолимой пропастью. Выбор научных проблем и подход к ним диктуются самим ученым и, следовательно, являются продуктом его расовой принадлежности. <…> Народ, который обрел свое лицо, не может терпеть у себя таких учителей и должен отвергнуть чужеродную мысль.
Бибербах далее ссылается на психологическую типологию Эриха Йенша, отождествляя тяготеющий к абстракции тип S с евреями и носителями романских языков, а тип J, стремящийся постичь реальность во всем ее многообразии, — с немцами. О теореме Коши–Гурса (причем ни Коши, ни Гурса не евреи!) он отзывается следующим образом:
Теорема Коши—Гурса вызывает у нас, немцев, нестерпимую досаду. Но уж конечно не у Ландау. Это психически обусловлено. <…> В конечном счете, это жонглирование понятиями и откровенные ухищрения характерны для неорганического, враждебного нам типа S, в особенности для еврейской математики.
Далее он сравнивает «еврейских» математиков с «остфальским» Гауссом, «нордическо‑динарским» Феликсом Клейном и «восточнобалтонордическим» Гильбертом:
Абстрактные еврейские мыслители типа S знали, как исказить [аксиоматику Гильберта], чтобы использовать ее как интеллектуальное варьете. <…> Это типичный пример того, как расово чуждые влияния и расово чуждые соблазны отрезают немцев от источника их собственной силы. <…> Не существует самодостаточной математической епархии, которая была бы независима от идеологии и жизни; дебаты об основаниях, которые сейчас разворачиваются, это на самом деле дебаты о расе.
Журнал «Немецкое будущее» сделал свои собственные выводы:
С точки зрения практической культурной политики получается, что математика не подвержена проклятию стерильного интеллектуализма; его бремя ложится на тех мыслителей, кто чужд нации и расе, кому нет места в будущем и кто принадлежит прошлому и не может более носить имя немецкого ученого. Немецкая математика укоренена в крови и почве.

Эти заявления вызвали неслыханное негодование за границей, даже большее, чем грубая отставка самого Ландау и всех прочих еврейских и «полуеврейских» ученых в Германии. В письме к Бибербаху от 19 мая 1934 года один из крупнейших американских математиков Освальд Веблен, профессор Института высших исследований в Принстоне, штат Нью‑Джерси, выразил свое отвращение к разграничению еврейской и немецкой математики и к псевдонаучному оправданию травли Ландау, «одного из великих математиков нашей эпохи». Он добавил, что статью в «Немецком будущем» в США прочитали «со смесью сожаления, насмешки и презрения». Веблен написал это письмо в порыве чистого человеколюбия — в то время он не мог предвидеть, что изгнание всех «неарийских» ученых из Германии, а впоследствии и из Австрии еще до конца 1930‑х годов превратит гостеприимные Соединенные Штаты (вместе с Россией) в центр мировой математики и физики, в особенности ядерной физики. Последствия этих перемен хорошо известны.
Потеряв свое профессорское место в Геттингене, Ландау перебрался в Берлин. Хотя он выезжал за границу читать лекции, на эмиграцию, которая бы означала для него потерю всего имущества, он так никогда и не решился. Он умер в 1938 году, всего лишь на 62‑м году жизни. 
Оригинал публикации: Hitler’s Math



