На минувшей неделе ушел из жизни историк литературы Борис Фрезинский. «Лехаим» публикует фрагменты книги Фрезинского «Мозаика еврейских судеб. ХХ век», вышедшей в издательстве «Книжники» в 2009 году.
Нас не нужно жалеть (Семен Гудзенко)
Семен Гудзенко — киевлянин, в 1939 году он приехал в Москву и поступил в ИФЛИ — самый престижный тогда гуманитарный вуз страны. В предвоенные годы поколение будущих поэтов России формировалось в трех московских вузах — ИФЛИ, МГУ и Литературном. Поэзия по социальному положению ее авторов была студенческой, хотя студенты были разновозрастными (ИФЛИ тогда заканчивал Твардовский, и в экзаменационную программу входила его «Страна Муравия»).
Время для литературы, как и для страны в целом, стояло тяжкое — шок от мощного кровопускания, совершенного в годы террора, действовал долго, полуобстрелянной молодежи поиски слова давались легче, чем старшим, чья воля была парализована. Имена молодых поэтов, по существу еще не печатавшихся, уже шумели по Москве. Фон был резким и ярким, на нем Гудзенко в глаза не бросался, недаром в его послевоенных книгах нет довоенных стихов.
Смерть умеет выбирать на войне лучших — Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Николай Майоров погибли в начале Отечественной, но их юношеские стихи стали хрестоматийными, их справедливо включают в антологии русской поэзии, справедливо не только по отношению к горькой судьбе и таланту авторов, но и по отношению к качеству поэзии.
В свой последний приезд в Питер Юрий Левитанский вспоминал, как они с Гудзенко вместе вели бой, — вряд ли история войн знала второй такой случай: два поэта за одним пулеметом…
Гудзенко повезло — он был тяжело ранен, но не погиб.

В 1942-м он написал первые стихи, вписавшие его имя в русскую поэзию навсегда. В 1943-м их напечатало «Знамя». Значение этой публикации для поэзии того времени сравнимо лишь со значением, которое имела для прозы публикация «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова все в том же «Знамени». Люди, не забывавшие стихов в окопах, поняли, как можно и как нужно говорить о том, что они видят и чувствуют. Официальной литературе предписывалось учить новых Матросовых легкости подвига, а Гудзенко писал:
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв. И лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Конечно, Гудзенко повезло — он не погиб, он написал замечательные стихи, и эти стихи тут же напечатали.
Приехав после ранения в Москву, Гудзенко пришел к Илье Эренбургу, чье влияние — литературное и политическое, а вернее политическое и литературное, — было тогда беспрецедентным, и прочел ему свои стихи. «Молодой человек читал очень громко, как будто он не в маленьком номере гостиницы, а на переднем крае, где рвутся снаряды. Я повторял: „Еще… еще“» — так вспоминал эту встречу уже совсем старый Эренбург, а тогда, в 1942-м, он сделал все, что мог, — публикации стихов, литературный вечер в Москве, рецензии. Выступая на первом вечере Гудзенко в Москве, Эренбург определил самую суть его стихов: «Это поэзия изнутри войны. Это поэзия участника войны. Это поэзия не о войне, а с войны, с фронта». Стоит привести еще один фрагмент этой стенограммы, чтобы понять атмосферу 1943 года, немыслимую тремя годами раньше. Как известно, в 1936 году прошла первая, инспирированная лично Сталиным кампания борьбы с инакомыслием в культуре, провели ее под лозунгом «борьбы с формализмом»; жертв было много, и жертвы были золотой пробы — Шостакович, Мейерхольд, Тышлер… Итогов этой кампании никто не отменял. И тем не менее Эренбург без всякой фронды, спокойно и сознательно заявил, что в поэзии Гудзенко «есть то, что есть в музыке Шостаковича, то, что было в свое время названо смесью формализма с натурализмом, что является смесью барокко с реализмом». В 1936-м такая аттестация означала волчий билет, в 1943-м Гудзенко печатали лучшие журналы Москвы.
Слава не испортила поэта, она придала ему уверенности; его стихи 1944–1945 годов столь же хрестоматийны, как и написанные в 1942–1943-м. От имени своего поколения Гудзенко говорил со спокойной уверенностью человека, исполнившего свой долг:
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты…
Гудзенко легко пережил свою славу военных лет; его товарищам по ИФЛИ пережить чужую славу было труднее. Давид Самойлов, тайно претендовавший на лидерство и начавший писать настоящие стихи лишь через 20 лет после начала войны, вспоминал, как увидел Гудзенко в Москве в 1944-м: «Семен был в полуштатском положении. И уже в полуславе, к которой относился с удовлетворенным добродушием. Он был красив, уверен в себе и откровенно доволен, что из последних в поколении становится первым».
В 1945-м Гудзенко написал стихи, в которых был аромат Киплинга:
Мы не от старости умрем, —
от старых ран умрем.
Так разливай по кружкам ром,
трофейный рыжий ром!
Он уже знал, что носит в себе смерть, — стихи оказались пророческими. Тяжелейшая военная контузия достала Гудзенко, последний год он провел в госпиталях, но и трудная операция не спасла его. Он умер в черном феврале 1953-го, когда до рассвета оставалось совсем немного… В конце 1953-го напечатали стихи Слуцкого, и началась другая эпоха…
«Нас не нужно жалеть», — как заклинание повторял Гудзенко, но и в сегодняшней России, где забыли, что значит жалеть живых, Гудзенко очень жаль. «Жаль до слез», — как написал отнюдь не слезливый Эренбург.
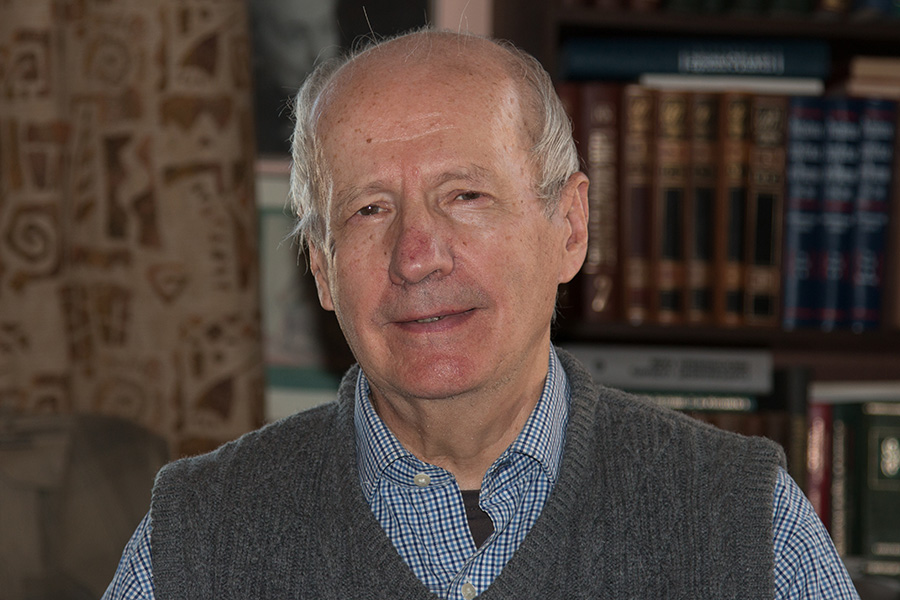
Эренбург и вокруг

Илья Сельвинский и его «державные семинаристы»

