Зарыто в Антверпене
На исходе XX столетия жизнь в еврейском квартале Антверпена протекала, похоже, примерно так же, как и 30–40 лет назад. И сам квартал сохранился — это позволило режиссеру снять в естественных декорациях вполне достоверный фильм.
Максимилиан Шелл играет здесь респектабельного пенсионера Зильбершмидта, который ночи напролет готовит подкоп. В начале 1940‑х он закопал где‑то самое ценное, что было в его довоенной жизни. Он похоронил здесь и саму свою прошлую жизнь, о которой боится вспоминать.
«Я положил в эти чемоданы все: мои книги, мою скрипку, семейное серебро, картины, мои чечеточные туфли и старинную шкатулку тети Сельмы с маленькой танцовщицей на крышке. Я отнес чемоданы в свое первое убежище. Но там я смог пробыть только одну ночь: понимаешь, у меня не было возможности взять их с собой, поэтому я закопал их в саду».
Много лет господин Зильбершмидт рассказывает одно и то же своей дочери Хае — про скрипку, чечеточные туфли и танцовщицу. Хая — студентка философского факультета, отец — берлинский еврей, бывший в Антверпене в войну и вернувшийся сюда потом. Бельгия тогда приняла 8 тыс. евреев. Не так мало, если учитывать численность беженцев на единицу площади: гигантская Канада приняла 16 тыс. евреев, а соседняя Франция разрешила въезд 2 тыс. Эти цифры не из фильма, а из книги, по которой снято кино.
- Оставленный багаж. Режиссер Йерун Краббе. США, Великобритания, Нидерланды, Бельгия. 1998
«Оставленный багаж» — экранизация романа голландской писательницы и журналистки Карлы Фридман «Два чемодана воспоминаний» (см.: Михаил Эдельштейн. Дорогой Альберт Эйнштейн // Лехаим. 2004. № 11). В 1998 году на конкурсе Берлинского кинофестиваля картина получила пусть не главную, но важную награду — «Голубого ангела», приз Гильдии артхаусного кино. Действие происходит в 1972 году. На университетских сборищах чувствуются отголоски студенческой революции 1968‑го, и эти споры, доходящие до драк, контрастируют со старомодным размеренным укладом еврейского квартала. Окружающие обходят «маленькую Варшаву» стороной — здешние обитатели нарушают в их глазах мировую гармонию.
По сравнению с книгой в фильме акценты смягчены, а где‑то смещены. Кажется, картина снималась в расчете на обязательное предварительное прочтение — вынужденная политкорректность ограничивает свободу высказывания. Однако режиссер не скупится на эмоции, демонстрируя образцового нациста — его карикатурно изобразил Дэвид Брэдли (британский театральный актер, которого многие знают по роли желчного смотрителя Хогвартса в фильмах о Гарри Поттере). Кажется немыслимым, что в 1970‑х в Европе кто‑то не стеснялся и не боялся публично поминать добрым словом нацистов. Но нет оснований не верить авторам. И режиссера, как и его героиню, явно раздражает поведение жителей еврейского квартала, их вопиющее непротивление окружающему злу и смирение перед агрессивными антисемитами. Но, несмотря на это, студентка Хая переступает границу «маленькой Варшавы» — она устраивается нянькой в хасидскую семью Кальман. Хая привязывается к их маленькому сыну, и это чувство определяет ее жизнь.
В отличие от книги, экранной версии не удалось избежать пафосной интонации, свойственной многим фильмам о Холокосте. Но это общее место. Легче найти двух‑трех режиссеров, которые, снимая фильмы о евреях в годы войны, сумели не наступить на эти грабли, чем перечислить картины, которые излишняя патетика сгубила напрочь. Здесь же можно простить режиссеру эту слабость — достоинств у фильма много больше.
Это достоверное кино, точно передающее эпоху. Можно подумать, что и снято все в 1970‑х, если бы не чуть отстраненный взгляд и закадровый текст из поздних времен. Это медленное кино — сознательный европейский анти‑Голливуд, и к тому же очень красивое. Перспективы, ракурсы, лица — все хочется зафиксировать, так четко выстроены кадры. Наконец, сочетание идеального актерского ансамбля с достойным сценарием (Карла Фридман — его соавтор) — такая редкость, что фильм точно надо смотреть.
- Оставленный багаж. Режиссер Йерун Краббе. США, Великобритания, Нидерланды, Бельгия. 1998
Исполнительница роли Хаи, прелестная Лаура Фрейзер из Шотландии, была в фильме единственной неизвестной на тот момент актрисой. Она почти ровесница своей героини, фильм — ее первый полный метр, и дебют удался.
Помимо Фрейзер и уже упомянутого Шелла, в фильме снимались, в частности, Изабелла Росселлини (она сыграла госпожу Кальман) и Хаим Тополь (Яков Апфельшнитт, наставник Хаи и друг ее отца). Росселлини очень похожа здесь на свою мать, Ингрид Бергман, времен «Триумфальной арки», но трудно поверить, что перед нами не еврейка. Хаим Тополь — он же Тевье‑молочник в «Скрипаче на крыше» Нормана Джуисона (1971) — альтер эго автора, судья в бесконечном споре ортодоксов и светских евреев, которые не хотят друг друга понять. «В Краковское гетто я совершенно не вписывался, — говорит дядюшка Апфельшнитт, — а в Освенциме чувствовал себя иностранцем. Но чем дольше слепой живет, тем лучше он видит. Когда я приехал в Антверпен, я надел талес и тфилин».
В Максимилиане Шелле с трудом узнается молодой адвокат из «Нюрнбергского процесса» (его первая знаменитая роль), но тема фильма — как раз очень его, Шелла: к концу 1990‑х в фильмографии актера накопилось много кинолент, сюжеты которых так или иначе касаются евреев. Можно вспомнить хотя бы «Избранных» Джереми Кагана (1983), где Род Стайгер играл хасидского раввина, а Шелл — светского сиониста, который очень близок к его персонажу в фильме «Оставленный багаж». Возможно, эти роли есть не что иное, как рефлексия австрийского аристократа, бежавшего после аншлюса к соседям и не простившего согражданам их лояльности тирану. Шелл стыдится их точно так же, как стыдилась его бывшая соотечественница Роми Шнайдер, родившаяся в год аншлюса, или Клаус Мария Брандауэр, выросший в Австрии после войны. Для каждого из них, в отличие от американских кинематографистов, гибель европейского еврейства в XX веке была частью не чужой, но собственной истории.
Для режиссера фильма, а изначально — успешного актера Йеруна Краббе эта история в полном смысле своя. Краббе, прославившийся в главной роли в «Четвертом мужчине» Пола Верховена (1983), снимался в «Кафке» Содерберга (1991), играл Генделя в фильме «Фаринелли — кастрат» (1994), отметился в телевизионном байопике «Сталин» (1992) в роли Бухарина (титульного злодея там, кстати, сыграл Шелл). Он представитель известной артистической амстердамской династии, его мать родилась в смешанной сефардско‑ашкеназской семье, дед погиб в Собиборе. Краббе поставил ТВ‑фильм «Дневник Анны Франк» и снялся в нем сам.
В фильме «Оставленный багаж» он тоже появляется на экране — в образе мрачного хасида, торговца шоколадом Кальмана. Как режиссер, Краббе разглядывает своего героя под лупой, пытаясь понять его. Как актер, становится адвокатом Кальмана и заставляет нас его полюбить.
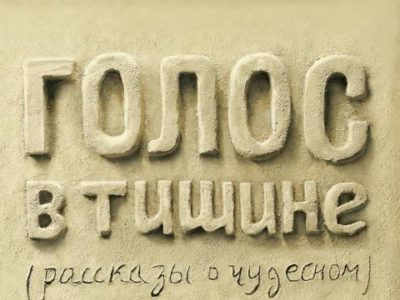
Голос в тишине. Собрание будет для вас
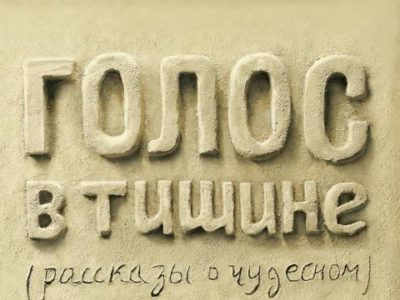
Голос в тишине. Человек словно дерево в поле






