19 октября исполняется 100 лет со дня рождения Александра Галича.

Началось это задолго до отъезда, до того дня, когда мы втроем, Галич, писатель Владимир Максимов и я, усидев бутыль, пытались прогнозировать его, Галича, будущее. Быть может, опираясь на прошлое, на достославные времена Сашиного официального успеха и благополучия, времена романтических комедий, услаждавших и авторскую душу и долженствующих убедить зрителя: все в порядке, ломать голову абсолютно не над чем. Но одновременно с этим, надо заметить, исподволь нарастало и беспокойство, переходящее в растерянность: так ли уж все о’кей?
От внутренней тревоги Галичу избавиться не удавалось. И не зря: баловню судьбы предстояло угодить в ее пасынки, когда не чьи-то благополучные «жигули» будут дежурить у подъезда, а черные «волги», демонстративно высунувшие антенны, давая понять: мы начеку. И от этой их явной готовности делалось – чего уж там – не по себе. Не настолько, правда, чтобы изменить маршрут, шмыгнув в соседний подъезд…

Взамен официального признания явилась неподконтрольная популярность: молодые компании в ресторане «София» все чаще затягивали песни Галича, иной раз беззаботно нарушая канонический текст. Однажды, не выдержав, я, вопреки обыкновению, подошел и решился поправить поющих.
«А вам откуда известно?» – спросили меня недоверчиво. «От автора», – раздраженно бросил я, одновременно вступая в финальную беседу с официантом.
Нигде не публиковавшиеся строфы расходились по стране, к сожалению, действительно далеко не всегда сохраняя первоначальный вид, а к этому автор относился с трепетом профессионала высокой пробы.
Наши добрые отношения сложились именно в пору превращения Галича из вполне респектабельного советского драматурга в сочинителя более чем подозрительных песен, высмеивавших систему, ее нравы и порядки, открывавших подлинную суть этих нравов и порядков. Настолько подлинную, что черная «волга» у подъезда с какого-то момента не покидала свой пост уже круглосуточно.
Сегодня – и это неудивительно – подобная ситуация представляется запредельной. Однако, будучи уже вчерашней, она далеко не всегда, увы, вызывает потребность сравнить ее с наступившим днем, осмысливая ход событий и связь времен, понять, наконец, что с неба ничего не упало, все основательно оплачено – не долларами, а нервами, бессонными ночами, изматывающим душу противостоянием, когда одна сторона, обладая вполне наглядными преимуществами и не слишком тая свои цели, прибегала к любым уловкам. Вплоть до страшноватой байки о вызове Александра Галича на дружескую беседу в кабинет с видом на Феликса Эдмундовича.
Об этом варианте запугивания мы с Галичем говорили иной раз в другой связи. Лубянка входила в московский район, известный нам обоим с детских лет. Не подозревая о том, мы провели ранние годы в непосредственном соседстве – метрах в трехстах друг от друга. Саша жил в том же, что и я, Кривоколенном переулке, только чуть ближе к Мясницкой. И, соответственно, к Лубянской площади, совершенно не занимавшей двух пацанов, одного из коих доставили в Москву еще в младенческом возрасте (Галич), а другого произвели на свет совсем неподалеку (я).
Обсуждая это совпадение, мы не игнорировали и важные различия. Галич, будучи несколько старше (год рождения «незабываемый… девятнадцатый»), еще на исходе 30-х, окончив студию Станиславского и попробовав свои силы на сцене фронтового театра, после войны становится профессиональным драматургом. Пьесы и фильмы по его сценариям приносят ему широкую известность. Однако написанное во времена нашего знакомства уже не могло рассчитывать ни на сцену, ни на экран. Исключение составлял фильм «Государственный преступник», вполне соответствовавший советским канонам. Чего я, признаться, не понимал.
В ответ на мой недоуменный вопрос Галич объяснил: договор был подписан много раньше, он не мог нарушить принятые обязательства. Это донельзя для него характерно. Он оставался человеком слова. Безотносительно к тому, как стремительно менялись его воззрения. Поэтому с «Государственным преступником» все в конце концов оказалось весьма не просто. И если даже такая позиция сейчас трудно объяснима или вызывает чье-либо несогласие, ее следует принять как данность.
Впрочем, тому, кто хотел бы до конца постичь сложности подобного рода, нужно, вероятно, влезть в шкуру автора, начинавшего вдохновенным певцом сущего, одним из создателей гремевшего в Москве спектакля «Город на заре». («Романтика, романтика небесных колеров, нехитрая грамматика небитых школяров», – напишет он позже.) Я не только видел этот спектакль, но, по воле случая, в 1941-м служил вместе с одним из главных его участников – Максимом Силискириди, знавшим Галича еще до войны.
Повоенный успех безупречно советского драматурга, сочинившего десяток пьес и несколько сценариев, не помешал ему совершить крутой поворот, сделать поистине судьбоносный выбор. Жизнь его совершенно переменилась.
На этом этапе, повторяю, мы и сблизились в доме творчества в Малеевке. Потребность утвердить себя в новом качестве настолько властно владела Сашей, что он, вопреки тамошним неписаным законам, в «священную» первую половину дня, отведенную для работы за письменным столом, мог явиться с визитом и, винясь для порядка, прочитать свежеиспеченный текст.
Но главным местом встреч служил, конечно же, домик директора малеевского детского лагеря Литфонда – шумной, веселой, гостеприимной, с прокуренным басом Елены Борисовны Асылбековой. Мусульманская фамилия этой глубоко семитской женщины, приобретенная, коли не ошибаюсь, на фронте, хорошо сочеталась с именем ее сына, которое присвоили ему друзья матери. Чингис-Хаимом нарекли мы его. На самом деле его звали Боря.
За вечерним столом у Елены Борисовны встречались каждый божий день. Саша пел новые песни, аккомпанируя себе на гитаре. Мы слушали изумленно и восторженно, однако, признаюсь, не слишком задумываясь о возможной реакции начальства на это вроде бы вполне правомерное «освежение» поэзии в эпоху, когда многие прежние формулы устаревали, а новые рождались со скрипом.
Появлялись не просто стихи, положенные на музыку, – рождался поэт, не похожий ни на своих собратьев, ни на самого себя, еще недавно вполне принимавшего не только действительность, но и расхожие литературные представления о ней. Более того – воплощавший эти представления в собственном, вполне благополучном творчестве, нисколько не противоречившем советским штампам.
Творчество подобного толка не нуждалось в доскональном знании реальности; оно вполне могло довольствоваться банальными, давно апробированными впечатлениями от нее. Не однобокими даже, но грубо выдававшими себя за правду-матку. Единственную, исключавшую какую-либо иную.
Даже достаточно осторожная новомирская статья В. Померанцева в защиту искренности в литературе подверглась тогда разносу как нечто враждебное, несовместимое с незыблемыми принципами соцреализма. (Замечу: реализм нигде и никогда не бывает социалистическим или капиталистическим, он не нуждается в эпитетах и не приемлет их.)
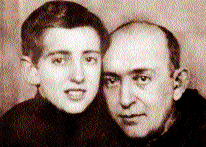


В жизни, открывавшейся Александру Галичу и открытой им, царила бедность; лучи солнца не проникали сквозь тусклые полуподвальные окна. И когда хватало «к чайку сырку или ливерной», позволительно было счесть себя вполне благоденствующим. А как иначе, ежели вокруг нищета, убогий быт, дикое имущественное неравенство, которое надлежит не замечать? Как и нынешнее?
Повседневное бытие миллионов людей являло одно, литература о них – нечто совсем иное.
Галич оказался среди тех, кто посягал на эту оскорбительную для народа и для литературы несуразность.
Посягал, как выяснилось, превосходно зная жизнь своих новых героев. Таких, скажем, как Леночка из песни про девочку-милиционершу.
Для меня, признаться, это обстоятельство явилось неожиданностью. Где получил он эти знания, если его житейские маршруты вряд ли превышали триста метров – от собственного подъезда до магазина «Комсомолец» со скромным винно-водочным отделом? Где сумел набраться воистину незабываемых подробностей?
По сей день не берусь твердо ответить на собственный вопрос. Но настаиваю: без глубинного проникновения в повседневную жизнь народа Галич не обрел бы себя в совершенно новом качестве. И не сочинить бы ему песен, что вскоре пели отнюдь не только в «Софии», а повсюду «на просторах родины чудесной», бывшей, правда, несколько менее привлекательной, нежели доказывали «лучшие» поэты. О чем в известность уже давно были поставлены многие.
Именно песни, отрицавшие повсеместную благодать, земной рай на одной шестой части суши, и стали, видимо, причиной появления черной «волги» у галичевского подъезда. «Волга» занимала свое постоянное место и тогда, когда поэт, исхлопотав путевку, отправлялся в Дом творчества в Малеевку. И он, и мы, в некоторой мере составлявшие его окружение, не вполне сознавали, какие тучи сгущаются над Сашиной головой.
Хотя кое-что уже можно было заподозрить после просмотра пьесы А. Галича «Матросская тишина». Просмотр состоялся при строго закрытых дверях в Доме культуры издательства «Правда».

Моя мать едва не всю жизнь проработала в школе рабочей молодежи этого издательства. Школа помещалась в тыльной части Дома культуры. Мне не составило труда проникнуть внутрь и стать свидетелем того, как номенклатурные дамы, платочком промокая слезоточивые глаза, следили за спектаклем. Но едва он кончился, как по команде аккуратно сложили платочки, спрятали их в сумочки, обменялись понимающими взглядами и единодушно запретили спектакль. Единодушие реакций было у них в крови. Как непременное условие жизни и служебной деятельности. Представить себе его нарушение труднее, чем снег в июле.
Окружение Галича бесспорно отличалось пестротой, разнообразием мнений, но у меня нет и малейшего основания кого-нибудь упрекнуть, скажем так, в шаткости и бросить в него камень. Даже спустя многие годы. Или осудить кого-либо за непонимание ситуации, – пусть она еще только начала меняться.
Хотя степень непонимания, как, естественно, и степень понимания галичевской поэзии разнились между собой. К примеру, верный правдист Борис Ласкин воспринимал ее так, а профессор военно-воздушной академии Елена Сергеевна Венцель – она приобретет известность среди читателей под псевдонимом И. Грекова, приобретет как автор талантливой новомирской прозы, – совершенно иначе. Видные журналисты Анатолий и Валентин Аграновские тоже относились к ней по-своему. И так далее.
Да, подобно всякому крупному поэту, Александр Галич мог восприниматься по-разному, – что не исключало безусловного доброжелательства и растущей тревоги за друга, вступившего на опасную стезю. Вот только мера опасности пока оставалась неопределенной. Но тучи именно, как говорится, сгущались. Он это превосходно чувствовал и сформулировал свою позицию с подобающей резкостью: «И не верить ни в чистое небо, ни в улыбку сиятельных лиц…»
Сашина жена, красавица Ангелина Николаевна, она же Нюша, именовавшаяся среди друзей за свою худобу «Фанерой Милосской», колебалась между безбрежным оптимизмом и глухим отчаянием.
Теперь уже общеизвестно: песни Галича довольно скоро вышли далеко за родные пределы. Однако сколько-нибудь внятного представления о реакции на них где-то там, за рубежом, мы не имели. Жизнь в глухой изоляции продолжалась. Тем паче, что нашим тщедушным приемничкам не под силу было одолеть исступленный вой глушилок, заполнявший эфир, едва «голоса» пытались сказать о Галиче хоть несколько слов, спеть его песни, уже дошедшие до них.

Нашим уделом оставалась жизнь в наглухо замкнутом пространстве. Эдакая духовная, интеллектуальная робинзонада, привычная, будто осенний дождик.
Закордонному, как, впрочем, и отечественному интересу к стихам Александра Галича безусловно содействовала еврейская тема. Пробивалась она, прежде отсутствовавшая, все упорнее, сильно повышая их, как тогда говорили, «непроходимость».
Тема эта относилась не просто к нежелательным – к криминальным. Поскольку так или иначе вскрывала лживость официальной демагогии, касавшейся строго охраняемой наверху, требовавшей поддакивания, но отнюдь не изучения проблемы «дружбы народов». «Дружбы», на деле не исключавшей ни дискриминации одного из этих народов, ни открытого казенного антисемитизма, по обыкновению советских времен приправленного обыденной ложью.
С беспощадной правдивостью Галич написал об убийстве С. Михоэлса песню «Поезд» («Уходит наш поезд в Освенцим, наш поезд уходит в Освенцим сегодня и ежедневно!»).
История гибели Януша Корчака воссоздана в поэме «Кадиш». (Корчак вместе со своими воспитанниками сожжен в Треблинке.) Судьба евреев «с пылью дорог изгнанья и с горьким хлебом» – в «Песке Израиля».
Он не отделял себя от этих своих героев.
Ну что ж, гори, гори, моя звезда,
Моя шестиконечная звезда,
Гори на рукаве и на груди.
Не поддававшийся на провокации Галич при всем его обиходном легкомыслии, тем не менее, сознавал: ни жить, ни писать, ни петь свои песни ему не дадут. Советское руководство, желавшее выглядеть человекоподобным, сознательно, возможно, и не стремилось к людоедским сталинским методам, но иных у себя в запасе не имело. Репрессии становились неизбежными.

А. Галич, М. Строева, А. Менакер, М. Миронова, И. Прут.
Об этом мы не раз говорили с Галичем. Говорил он о том же и со своим новым другом, Владимиром Максимовым, человеком трезвым и вполне созревшим для решительных действий.
Однажды днем Саша позвонил, попросил прийти. Явившись, я застал у него Максимова, с которым был давно и хорошо знаком.
Мы сидели за столом, на столе высилась одинокая бутылка. Нюша принесла закуску и молча удалилась.
Речь пошла о неотвратимости отъезда, его вариантах. Уже понимая неизбежность Сашиной эмиграции, я сидел, совершенно раздавленный.
Много лет спустя я увидел его могилу на русском кладбище Сент-Женевьев де Буа под Парижем.
Смерть настигла Сашу 15 декабря 1977 года во французской столице, когда, верный своей давней, может быть даже детской, привычке он пытался усовершенствовать нечто сугубо техническое.
Минуют годы, и мемориальная доска на фасаде дома по улице Черняховского, где когда-то жил поэт Александр Галич, подтвердит: да, именно здесь он обитал в свои благополучные, а потом и в куда как неблагополучные годы, даровавшие ему, однако, духовное освобождение.
Память о прошлом не исчезла и, надеюсь, не исчезнет: залогом тому – не только мраморный прямоугольник, но и свежие цветы, неведомо кем оставляемые под ним.

С Юрием Любимовым
(Опубликовано в №150, октябрь 2004)

Майсы от Абраши

Контрапункт Калика

