
Осенью 1918 года в Москве произошло театральное событие, которое не осталось незамеченным даже на фоне того страшного времени. Обосновавшийся незадолго до этого в Москве театр “Габима” показал свой “Вечер студийных работ”. Слово “габима” — ивритского происхождения, ближе всего соответствующее русскому “подмостки”. Это был новый, но далеко не первый спектакль театра.
Предыстория “Габимы” такова. В 1906 году Наум Цемах, учитель иврита из города Белостока, познавшего так много еврейских трагедий и погромов, собрал некоторое количество актеров-профессионалов, в основном своих учеников, и предложил им создать оригинальный театр, где будут играть на иврите — языке Библии. “Этого, — сказал Цемах, — не было еще в истории, от наших праотцев до нынешних дней”.
Уже в начале 1907 года воспитанники Цемаха показали в Белостоке свой первый спектакль — “Мазл Тов” по Шолом-Алейхему (уместно напомнить, что с этой пьесы начинал и ГОСЕТ в Москве). Вдохновленный успехом и подталкиваемый событиями 1905—1907 годов, Цемах решил, что его театру пора ставить пьесы современные, революционные. “Результат” сказался немедленно: театр в Белостоке был запрещен, актеры стали ездить по городам и местечкам черты оседлости, представляя свои многочисленные новые работы. Один из этих актеров вспоминает: “Мы ставили новый спектакль каждую неделю”. Но с мытарствами приходило и признание. В 1913 году, после гастролей в Вильно, этом Ерушалаиме де Лита, “Габима” входит в разряд профессиональных театров. И, возможно, оставался бы он таким, каким создал его Цемах, но…
Все изменилось с приездом “Габимы” в Москву. Посмотрев спектакли Художественного театра, Наум Цемах интуитивно понял, что путь, выбранный им в искусстве, не имеет будущего. Не будет преувеличением, если сказать, что Московский художественный театр “свел с ума” актеров “Габимы”. Цемах отправился к Немировичу-Данченко и Станиславскому, чтобы заявить небожителям МХТ (тогда еще театр не имел статуса “академический”) о готовности театра, возрождающего иврит, играть на русском языке, только бы им руководил Станиславский (как тут не вспомнить Маяковского: “Я русский бы выучил только за то…”).

Константин Сергеевич Станиславский встретил Цемаха доброжелательно, внимательно его выслушал. Но на просьбу студийцев взять их “под свое крыло” ответил вежливым отказом. Он мог бы читать лекции актерам “Габимы”, но не репетировать с ними, и предложил вместо себя одного из лучших своих учеников, актера и режиссера МХТ Евгения Вахтангова. Вахтангов с нескрываемым удовольствием принял предложение учителя и приступил к работе. Вскоре ему пришлось ее прервать по состоянию здоровья, хотя даже во время лечения он готовился к встрече с “Габимой”. Читал произведения еврейских авторов, о чем свидетельствуют его записи в дневниках: «Бялик большой поэт. Сильный и резкий. Больше всего мне нравится “Сказание о погроме”… “Дети черты” Шолом-Алейхема. Наивно. Любовно. Хороший юмор». Там же мы находим отзывы о прочитанных книгах Менделе Мойхер-Сфорима, Юшкевича. По одному этому можно судить, какое место заняла еврейская тема в жизни Вахтангова.
После отдыха в щелковском санатории, в июне 1918 года, Вахтангов продолжил работу в новом для него театре. Увлечение его библейской “Габимой” не случайно. В его дневниках часто встречаются идеи, навеянные Библией: “Хорошо бы заказать такую пьесу: Моисей (косноязычен). Жена. Аарон. Может, видел, как египтянин бил еврея. Убил его… Ночью с ним говорит Б-г, велит идти к фараону и дает ему для знамений способность творить чудеса… Моисей перед народом… Моисей перед народом со скрижалями… Идут века… Ночь далеко за пределами осязания, пространства, огонь. В ночи слышна песнь надежды, тысячи приближающихся людей. Идет, идет народ строить свою свободу. Занавес…”

Очевидно, что в театр, творящий свое искусство на языке Библии, Вахтангов пришел по зову души. Театровед Х.Херсонский написал: «Но не Библия, а современность интересует Вахтангова. Легендарное шествие народа, руководимого Моисеем, — это для Вахтангова только исходный, изначальный образ, который помогает перебросить мост через века, через тысячелетия к народу, “чью песнь надежды” слышит сегодня художник».
При всем уважении к Х.Херсонскому, видному театроведу, автору жизнеописания Вахтангова, позволю себе не согласиться с его толкованием подхода Евгения Багратионовича к библейской теме вообще и в “Габиме” в частности.
Конечно, Вахтангов, подобно другим театральным деятелям, сформировавшимся на гребне революционных событий в России десятых годов нашего века, не все воспринимал так, как можем интерпретировать мы сегодня, спустя примерно 80 лет. Попытка сделать из Вахтангова режиссера “большевистского толка” (упоминая при этом его выражение “Большевики тем и прекрасны, что они одиноки, что их не понимают”…) — беспочвенна. Желание же “инсценировать Библию” сам Вахтангов объяснял очень конкретно: “Надо сыграть мятежный дух народа…” И вообще народ для Вахтангова — понятие далеко не абстрактное. Художник должен прозреть в народе, а не учить его, «художник должен вознестись до народа, поняв высоту его, а не поднимать его по своему смешному самомнению “до себя”». Разумеется, все это мнение большого художника, но мнение личное, индивидуальное. Для нас же в этих мыслях Вахтангова важно другое: своими размышлениями он скорее близок к хасидским мудрецам, никогда никого не поучавшим. Общаясь с народом “на равных”, они учились у него и становились его истинными Учителями. Учебниками этих педагогов были не древние фолианты, а легенды, сказания, сочиненные обитателями штетелех. Народные творения, превращенные в притчи, они в виде мудрых сказаний переносили из поколения в поколение, из местечка в местечко. Такая притча легла в основу пьесы Ан-ского “Дибук”, которую Вахтангов поставил в “Габиме”.
Ранее поставленный Вахтанговым в “Габиме” уже упомянутый “Вечер студийных работ” включал в себя четыре одноактные пьесы: “Старшая сестра” Шолома Аша, “Пожар” Переца, “Солнце” Каценельсона и “Напасть”, инсценировка рассказа Берковича. Первый вечер ГОСЕТа в Москве также состоял из нескольких одноактных пьес, инсценированных по Шолом-Алейхему, но происходило это после “Вечера студийных работ” “Габимы”.
Об искусстве Вахтангова-режиссера, Вахтангова-учителя написано много, и все же “колдовство” его остается тайной, загадкой. Актеры, испытавшие на себе это колдовство, сами становились режиссерами (вспомним Завадского, Захаву, Симонова). Не следует думать, что Вахтангову с габимовцами было легко (а кому легко с актерами, тем более еврейскими). Отдельным студийцам из “Габимы” непонятно было, почему в еврейский театр сионистского толка был приглашен режиссер, не имеющий никакого отношения ни к евреям, ни к ивриту. Не волновало их и то, как интересовался еврейской историей Вахтангов. Не интересовало, что уставший и больной человек берет уроки иврита у московского раввина Мазе. Среди габимовцев появились даже “взбунтовавшиеся”. “…У меня начинает возникать нехорошее подозрение и растет вопрос: ради чего я так работаю и ради чего я должен сносить личные оскорбления?” — спрашивает режиссер в письме к актерам “Габимы”.
Представляя Вахтангова труппе, Цемах рассказывал о нем: “Это не просто режиссер, но потомок царского рода Вахтангов; среди его предков грузинские цари из династии Багратионов, а они, как известно, восходят к древнееврейскому царю Давиду”. Так вошел Вахтангов в “Габиму”. Цемах на самом деле не сомневался в грузинском происхождении Вахтангова. “Ошибку” Цемаха понять нетрудно — грузином Вахтангова считали, да и до сих пор считают многие. Известный театральный деятель и режиссер Л. Сулержицкий не раз восклицал: «Ну, сонный грузин… Опять лежишь “под чинарой” и мечтаешь? Нет, я должен сделать из него человека!». Если уж говорить о национальной принадлежности Вахтангова, то отец его был армянин, а мать — русская.
Евгений Багратионович Вахтангов, разумеется, знал, какую роль сыграла в истории евреев, грузин и армян Библия. Несомненно, в “Габиму” его привела и общность судеб этих древних народов, на протяжении многих веков хранивших верность своему языку, культуре, традициям.
Вахтангов начал работу в “Габиме” так, будто он был знаком с этим театром всю жизнь. Можно предполагать, что для оформления спектакля “Дибук” художник Натан Альтман был приглашен им. Это подтверждает дружба режиссера с художником во время работы над “Дибуком”. Многие сцены Вахтангов “подгонял” под эскизы, выполненные Альтманом.
О живописце, скульпторе, графике, великом художнике ХХ века Натане Альтмане следует рассказать отдельно. Впрочем, лучше обратиться к воспоминаниям самого Альтмана: “Когда я привез эскизы в Москву, у Вахтангова был уже закончен 1-й акт. Я не знаю, что он почувствовал, когда впервые их увидел, но знаю, что он сделал. Он перечеркнул уже сделанное и заново начал работу, отталкиваясь от эскизов. Работа над спектаклем продолжалась в каком-то невероятном возбуждении, почти экстазе… На генеральной репетиции в зале сидел восхищенный Горький. На премьере помню Луначарского, рядом со мной сидел Шаляпин. Впечатление от спектакля было ошеломляющее”… И еще одно очень значимое воспоминание Альтмана о спектакле: “Вахтангов не знал ни еврейского языка, ни местечкового быта, ни еврейских обычаев, легенд и суеверий, то есть всего того, на чем строилась пьеса. В своей работе он поневоле должен был руководствоваться указаниями студийцев. Они тянули его в сторону бытовщины, а пьеса была экстатической и героико-трагической. Люди, которых я изобразил на эскизах, были трагически изломаны и скрючены, как деревья, растущие на сухой и бесплодной почве. В них были краски трагедии. Движения и жесты были сгущены и утрированы. Я стремился к предельной выразительности формы. Сами формы должны были действовать на зрителя, так как слова, которые произносили актеры на древнем языке <иврит>, были большей частью слушателю непонятны. Движения и жесты их должны были походить на танец”.
Не хочется расставаться с замечательным рассказом Альтмана, но вернемся к Вахтангову и его работе над “Дибуком”.
Он часами беседовал с раввином Мазе и больше всего просил его рассказывать еврейские легенды, особенно хасидские. Через месяц после начала репетиций Вахтангов уже понимал иврит, а к концу 1921 года мог и разговаривать на этом языке (внук режиссера Евгений Сергеевич Вахтангов рассказывал, что в семье сохранилась память об увлеченности деда ивритом). Об увлеченности Вахтангова постановкой “Дибука” оставил замечательные воспоминания Юрий Завадский: «Спектакль “а-Дибук” обладал поразительной силой воздействия… Как глубоко Вахтангов воспринял и сумел передать самую сущность, поэтическую силу этой еврейской легенды, воплощенной в драматической форме! Спектакль в буквальном смысле слова потрясал даже тех, кто почти ничего в нем не понимал… Казалось, что вы погружаетесь в какой-то страшный сон… переворачивающий вам сердце… И колдовство искусства нисколько не влияло на ваши гражданские чувства. Не думаю, чтобы нашелся хоть один зритель, которого могла опьянить, отравить “мистика” “а-Дибука”… Зритель буквально забывал, что с ним происходит. И когда просыпался, понимал: да, это был изумительный театр».

К сожалению, не сохранилось кинокадров этого великого спектакля, но остались отзывы и рецензии об этой гениальной постановке Вахтангова, принадлежащей, по мнению истинных театроведов, к шедеврам мировой режиссуры. Мало того, что “Дибук” ставили на древнееврейском языке (советская власть искореняла иврит каленым железом), — спектакль этот не вписывался ни по каким параметрам в начало 20-х годов советской России. В ту пору власти уже приступили к решительной борьбе с хасидами, хабадниками, преданная властям “евсекция”, активно ими поддерживаемая, резко выступила против театра, играющего на иврите.
Предаваясь своей интуиции, Вахтангов сделал в “Габиме” то, о чем мечтал всю свою жизнь. В ту пору, уже тяжело больной, он знал о своей обреченности, но работал дни и ночи, возвращаясь от веселых и озорных героев “Принцессы Турандот” к мрачным персонажам “Дибука”. Во время работы над этими постановками он писал: “Бытовой театр должен умереть… Все, имеющие способность к характерности, должны почувствовать трагизм (даже комики) любой роли и должны научиться выявлять себя гротескно”. Это был откровенный выпад против своего учителя — как известно, Станиславский был сторонником театра реалистического. Надо сказать, что через много лет Михоэлс, высоко ценивший Станиславского, тоже позволял себе не соглашаться с ним. Именно гротеск, причудливость в искусстве, в театре, любил Вахтангов, и более всего это выразилось в “Дибуке”.
Премьера “Дибука” состоялась 31 января 1922 года. Рассказать о ее триумфе коротко невозможно, процитировать лишь одной фразой все отзывы прессы — получится отдельная и большая компиляция. Можно утверждать, что спектакль явился вершиной творчества и Вахтангова, и театра. До этого в “Габиме” с успехом шли другие спектакли, их посещали такие зрители, как Лев Каменев, Анатолий Луначарский, Федор Шаляпин, Михаил Чехов, Всеволод Мейерхольд, Александр Таиров, Василий Немирович-Данченко. Частым гостем в театре был известный и уважаемый раввин Яков Мазе. Вот что писал о театре Максим Горький: «У артистов “Габимы” есть — мне кажется — сильное преимущество перед Художественным театром его лучшей поры: у них не меньше искусства, но больше страсти, экстаза. Театр для них — богослужебное дело, и это сразу чувствуешь».
В постановке Вахтангова пьеса Ан-ского отчасти отражала реалии 1921 года. Романтическая возвышенность революции уже сникла, а кровь гражданской войны еще не остыла, и покой не наступил (“злые духи” в такие времена вселяются в души многих людей).
Появление “Дибука” вызвало немало споров. Были и такие мнения: «“Дибук” не имеет ничего общего с русской революцией и нашими днями». Так утверждал театральный критик Михаил Загорский, написав в этой же рецензии, что “спектакль Вахтангова помог ему воистину понять очарование и пленительность этих грохочущих и сверкающих лет”. Впрочем, похожие отзывы писали театроведы о другом гениальном спектакле на тему, близкую к “Дибуку”, — “Ночь на старом рынке”, поставленном А. Грановским в ГОСЕТе в 1925 году с Михоэлсом и Зускиным в главных ролях. Здесь небезынтересно отметить, что “Ночь на старом рынке” запомнилась и игрой актеров, и декорациями Роберта Фалька, и режиссурой Алексея Грановского. От “Дибука”, обошедшего после изгнания (в 1927 году) “Габимы” из СССР сцены всего мира, в памяти зрителей более всего оставалась гениальность режиссерской работы Евгения Вахтангова и что-то от блистательных декораций, созданных Натаном Альтманом. Подтверждением этих слов может служить цитата из статьи Двойры Либман, опубликованной в американской газете “Форвертс” в 1934 году: «К нам из Палестины приехал театр “Габима”, в котором я работала еще в Москве. Я смотрела “Вечный жид” с Цемахом в главной роли, “Сон Иакова”. Эти спектакли были похожи и даже стали интереснее, чем те, что ставили в Москве в начале советской власти. В последний день гастролей я посмотрела “Дибук”. Но это уже совсем другой, не тот “Дибук”, что был в пору моей молодости. Без нашего любимого грузина (режиссер так и остался в памяти многих габимовцев грузином — М.Г.), без декораций Альтмана все потерялось. И снова я вспомнила нищую, бедную Москву 20-х годов. После наших спектаклей известные русские актеры, даже сам Чехов, ходили с подносом среди зрителей и собирали пожертвования на завтрашний спектакль. А этот замечательный Вахтангов, больше похожий на еврея или армянина, чем на грузина (!), очень уставший, выходил на сцену, не имея уже сил стоять на ногах. С ним вместе выходил Натан Альтман (наверное, боялся, что режиссер, тяжело больной и уставший, может, не дай Б-г, не удержаться на ногах). Альтман и Вахтангов были даже чем-то похожи друг на друга. А потом все актеры и сам Наум Цемах кланялись великому своему Учителю в ноги — это было преклонение перед великим актером».
Размышляя обо всем этом в канун события, упомянутого в начале статьи, я подумал: надо же такому случиться — армянин, принимаемый и за грузина, великий русский режиссер Вахтангов оставил вечный след в истории еврейского театра. А руководители ГОСЕТа Грановский и Михоэлс так много, увы, сделали (впрочем, не они одни) для изгнания “Габимы” из Москвы! Хочется думать, что сделали они это, глубоко заблуждаясь.
Когда-то в доме Ивана Семеновича Козловского художник Борис Федорович Шаляпин рассказывал, как высоко ценил искусство этого театра его отец, считая его одним из лучших драматических театров, творчество которого он имел счастье видеть. Федор Иванович продолжал интересоваться судьбой “Габимы”, когда театр уже был в Палестине.
Статью, посвященную юбилею “Габимы” и памяти Вахтангова, хочется закончить словами руководителя “Габимы” Наума Цемаха, произнесенными 29 ноября 1922 года на вечере памяти Евгения Багратионовича: «Бледнеют слова, меркнут мысли. Это не смерть, не горестное сознание утраты, это катастрофа в наших домах. Осиротела Первая студия, в трауре Третья, но “Габима” осиротела вдвойне… Для “Габимы” имя Вахтангова будет начертано вечными, неистлевающими письменами, будем произносить его не только на языке Пушкина и Толстого, но и на языке Библии и Бялика».

«Дибук»: не от сего мира…
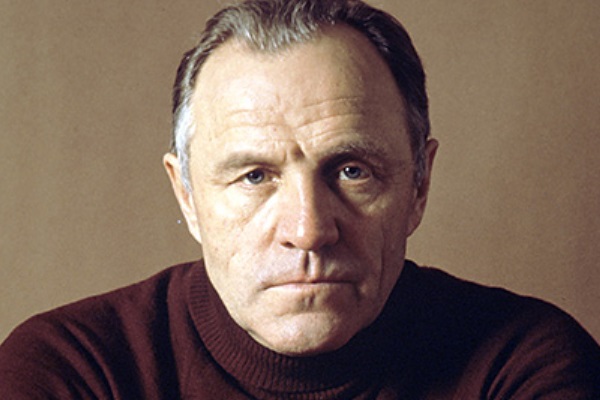
Я навсегда полюбил Тевье…

