Теперь я знаю толк в вине, но по‑прежнему питаю слабость к «Конкорд грейп» Манишевица
Материал любезно предоставлен Tablet
Я и сейчас слышу — а ведь сколько лет прошло! — как ужаснулась моя мать, когда обнаружила, позвонив мне по телефону (меня выдал голос), что я пьяна. Мне было тогда слегка за двадцать, я жила черт‑те где в темноватой квартирке не в самом благополучном районе Верхнего Ист‑Сайда и вернулась домой после вечеринки, изрядно поддав. В опьянении я ощущала, что парю, что сам черт мне не брат, что мне все нипочем — и меня это радовало. Мне нравилось, что я в подпитии, и именно это, а плюс к тому у меня еще и язык заплетался, ошарашило мою мать.
— Ты пьяна, я же слышу, — сказала она, и это был суровый приговор.
— Вот как? — сказала я. — Вроде бы да.
Она помолчала, молчание ее донеслось по проводам как крик.
— Дафна, — сказала она. — Евреи не пьют.
Это была констатация, сомнений она не предполагала, это был категорический императив, порожденный национальной гордостью и осознанием иерархического толка различий: евреи не пьют. Другие, точнее сказать, «гои» пьют и тем хуже для них, а мы, мы не пьем — и тем лучше для нас.
Отрицать не приходится, у нас есть Пурим, а на Пурим евреев даже поощряют пить, да так, чтобы у них зашумело в голове и они уже не могли отличить героев пуримской истории от злодеев, а проклятие «арур Аман» от пожелания «барух Мордехай» . Был еще и период в три недели от начала Рош а‑Шана до Симхат Тора, и тогда вино присутствовало в нашей жизни чаще, чем в любое другое время года: вино подавали к йонтиф (праздничному) ужину и обеду, прямо как на шабат, для кидуша — какой же кидуш без вина — и для праздничности; мы ненадолго словно бы становились французами, тем без бокала вина кусок не идет в горло. Вино в эти долгие праздники подавали что ни день, и после них меня всегда удивляло, что вино не подают и в будни.
Тем не менее, едва праздники кончались, как вино снова появлялось на столе лишь в шабат, так что для наших единоверцев, среди которых преобладали трезвенники, эти несколько праздников были исключением.
Что да, то да, пить — означало отпасть от еврейства и пасть в пучину неудержимых порывов и необузданного поведения. Чего в таком случае ждать в дальнейшем?
Я выросла в строго религиозном доме, где скрупулезно блюли законы кашрута и шабата, а о коктейлях и слыхом не слыхали. Вместо «Ореос» мы лакомились чем‑то под названием «Смоки биэр» (в списке ингредиентов «Ореос» растительные масла не значились, а раз так, не исключено, что в его состав входил животный жир). Целые сутки, с вечера пятницы до вечера субботы, то есть до конца шабата, мы не пользовались электричеством: не разговаривали по телефону, не зажигали свет, не включали ни телевизор, ни музыку. Вечером в пятницу — исключительно вечером в пятницу — вся наша семья, мои родители и мы, шестеро детей, собиралась за столом, в остальные дни родители ели в столовой, а мы с братьями и сестрами — на кухне. Диковатый, в своем роде иерахический уклад сообщал жизни нашей семьи нечто викторианское и вместе с тем придавал нашим пятничным трапезам тотемистическую обрядность.
Стол был неизменно красиво накрыт (об эстетике моя мать заботилась весьма, о том, чтобы создать теплый семейный очаг, — не слишком) — льняная скатерть, льняные салфетки, цветы, тонкий фарфор, стаканы для воды, бокалы. Люстра сверкала, столовые приборы и подсвечники высокой пробы серебра блистали, вся обстановка, казалось, предвещала: вот‑вот произойдет нечто важное. Благословение на кидуш отец совершал и до того, как наше еженедельное меню дополнялось выпивкой. Выпивка в годы моего детства обычно имела вид бутылки вина компании «Манишевиц» , ну а позже, когда производство кошерных вин расширилось, мы переключились на более изысканные марки — израильский «Кармель» , на смену которому в свою очередь пришли «Ярден» и «Кедем» .

«Ман О Манишевиц! Вот вино так вино!» Это был гвоздь — голову над ним явно не ломали — рекламной кампании столь популярного у нас вина на телевидении и по радио. В «Конкорд грейп» «Манишевица» мне нравилось все, начиная с глубокого пурпурного цвета до приторно‑сладкого — ни дать ни взять забродивший виноградный сок — вкуса. Нравилось мне и что к нему не нужно было привыкать, не то что к другим взрослым напиткам, к тем — от скотча до кофе — приходилось вырабатывать вкус. «Манишевиц» же пленял с ходу, в чем бы его ни подавали — в белых ли бумажных стаканчиках для кидуша после субботней службы поутру в синагоге, в большом ли серебряном кубке, который переходил по кругу из рук в руки, так чтобы за ужином каждый мог сделать глоток. Мне нравились даже то, что это вино, не давая о себе забыть, неизменно оставляло пятна на всем от скатертей до нарядных платьев для шабата.
Еврейские законы касательно вина и виноделия очень сложны, раввины много веков кряду систематически уточняли и усовершенствовали их, дабы достичь максимально возможной их святости. Установления относительно кошерности вина, в основе своей, вызваны опасениями, как бы выпивка не смела барьеры между евреями и неевреями (а там и табу на смешанные браки). Соответственно, у нас дома прислуге из неевреев прикасаться к винным бутылкам не разрешалось: их неизменно вынимала из холодильника и приносила на серебряном подносе на стол моя мать. (Исключение из этого правила делалось лишь для вина, которое кипятили, называлось оно яин мевушаль , и его могли подавать и неевреи.) Но я не припомню, чтобы когда‑либо откупорили больше двух бутылок, а раз так, значит, пили мало, потому что семья наша большая, к тому же на обед, как правило, приглашались гости.
Вино к столу подавали и еще несколько раз в году по случаю Великих и малых — от Рош а‑Шана до Шавуот — праздников. На седере в Песах, конечно же, полагалось выпить четыре бокала вина, но, помнится, после первых двух бокалов многие гости, опасаясь осоловеть, переходили на виноградный сок. К нам на седер постоянно приходила близкая подруга моей матери Хильда, так вот она осушала один за другим четыре бокала и под конец седера, к явному неудовольствию моей матери, бывала под градусом. Я и сегодня числю Хильду среди крепко закладывающих — их было немного — друзей моих родителей, но, думается, объясняется это тем, что все вокруг пили более чем умеренно.
Меню наших ужинов в шабат моя мать особо не разнообразила, но иногда баловала нас одним десертом, его она переписывала на вырванный из блокнота листок и вручала нашей верной кухарке Айви, чтобы та воплотила его в жизнь. Рецепт этот запал мне в голову, потому что в него входило спиртное. Для этого вкуснейшего шоколадного мусса со взбитыми белками вместо сливок требовался шнапс. Я всегда считала, что шнапс — это особо крепкий немецкий напиток, но, наведя справки в Гугле, обнаружила: при том что шнапс «родом» из Германии, «так можно называть любые крепкие напитки», а «на вид и на вкус он ничем не отличается от eau de vie ». Не иначе как по этой причине мне стоило немалых трудов отыскать бутылку шнапса, когда, повзрослев, я стала жить отдельно и, решив приготовить этот мусс, озадачила не одного владельца винного магазина, утверждая, что мне нужен какой‑то особо крепкий напиток…
Если не считать вина на шабат и праздники, алкоголя в доме не держали, исключение составляли лишь бутылки, хранившиеся — осторожность не помешает — в небольшом баре, встроенном в книжные полки вдоль стен отцовского кабинета. Бар этот, вызывая мой ребяческий восторг, освещался, когда его открывали, а хранились в нем обычно одна‑две бутылки ликера в подарочной упаковке или «Чивас Ригал» — их преподносили в знак благодарности приглашенные на ужин гости, а также бутылка‑другая сливового бренди, более известного как сливовица, и изредка бутылка виски или портвейна. Когда к нам приезжала погостить из Израиля моя бельгийская бабушка, в бар добавляли парочку бутылок «Болса» — этот ярко‑желтый ликер, что‑то вроде гоголь‑моголя с ромом, бабушка обожала.
В отрочестве я нередко страдала бессонницей, и, когда не могла заснуть, мать, случалось, давала мне рюмочку сливовицы. Я стояла в темном кабинете, освещенном лишь лампочкой из бара, и тут мать принадлежала мне и только мне, и это так мне нравилось, что я цедила сливовицу как можно медленнее, чтобы оттянуть возвращение в постель. Так в первый и единственный раз я испытала на себе благодетельное воздействие спиртного, но ребенком я была послушным, поэтому мне и в голову не приходило, когда я стала старше, приложиться к портвейну, а уж залезть в бар и отведать то, что в нем хранилось, и подавно.
И опять же, очень‑очень долго — вероятно, потому что пить мне и не запрещали категорически, и не предоставляли полную свободу, — возможность изменить сознание, напившись вусмерть, меня ничуть не прельщала. А вот когда моя дочь училась в последних классах частной школы, родители ее соучениц, напротив, единодушно требовали, чтобы на школьных сборищах не было выпито ни капли спиртного. Такое ярое неприятие пьянства и всего, что оно за собой влечет, уходит, как я предполагаю, корнями в семейное прошлое: наверняка, там по закуткам таится один, а то и два родича‑алкоголика. В еврейской дневной школе, куда я ходила в 1960‑х — начале 1970‑х, как помню, шли дискусии о сексе и наркотиках, но пагубные последствия выпивки на моей памяти никогда не считались предметом, достойным обсуждения.

С явлением, известным как предобеденный коктейль, я познакомилась не так в жизни, как в литературе — по книгам О’Хары, Апдайка, Чивера, чьи рассказы об angst загородных ВАСПОВ были бы неполными без позвякивания кубиков льда и бульканья разливаемого где‑то на заднем плане спиртного. О том, что выпивка с ее ритуалами занимала решающее, да что там, святое место в воображении американцев, о том, какими хитроумными способами алкоголь, похоже, проникал повсюду, начиная от тягомотных пересудов до робких сексуальных заходов, я тоже узнала из книг. Поняла я и (заимствуя название рассказа Джона Чивера) что «От джина одни беды» и что власть алкоголя над теми, кто подпал под его пагубное воздействие, оборачивается трагедией.
Особая манкость алкоголя для писателей настолько возбудила мое любопытство, что я раздобыла «Томимых жаждой» — книгу о том, как разрушительно повлиял алкоголь на четверых американских писателей.
Однако знакомство мое с этой областью жизни оставалось в основном теоретическим, лишь после двадцати я впервые свела дружбу с людьми, которые предобеденный, отведенный на коктейли час блюли со всеми онерами. Среди них была и моя подруга Бетти Хоу, чьи родители ассимилировались до такой степени, что вплоть до старшего класса средней школы Бетти и знать не знала, что она еврейка. Я наезжала в выдержанный в строго модернистском стиле дом ее родителей в Рае на уик‑энды, и ближе к пяти— половине шестого внимание мое приковывала подготовка к предобеденным возлияниям: предварительно в гостиной расставлялись тарелочки с сыром и орешками, звучала тщательнейшем образом подобранная классическая музыка.
Мы, а было нас всего четверо (Бетти — единственный ребенок), сходились в гостиной с бокалами, по преимуществу, как я помню, вина и вели, ни в коем случае не касаясь ничего личного, беседу на подходящие случаю культурные темы, будь то книги, искусство или последние спектакли. Я чувствовала себя немыслимо взрослой — не то что в в родительском доме, и в то же время ощущала некий разлад между интимностью обстановки, умиротворяющим действием вина и церемонным характером нашего общения. Прежде алкоголь связывался у меня с порывами расчувствованности и неуместными откровениями, я и впрямь думала, что пьют в немалой мере затем, чтобы выпустить скованный до того ид на простор более не удерживающего себя в рамках суперэго. Предобеденные коктейли с Бет и ее родителями помогли мне понять, что даже если стать своей в доску на компанейских пьянках, можно и там остаться не менее закрытой, чем улитка в своем домике, и что алкоголь расрепощает, лишь если — негласно — дать ему волю. За последние три десятка лет мне довелось побывать на множестве коктейлей, и я открыла, что во всем мире евреи (если не считать ортодоксальных иудеев), пьют, и еще как. Да я и сама, невзирая на предостережения моей матери, что евреям пить не следует, такова уж их природа, обнаружила, что могу пить без особых для себя последствий. Года два, в конце 1980‑х — начале 1990‑х, я работала в издательстве и тогда что ни день опрокидывала до обеда две‑три рюмки «Кровавой Мэри», после чего была только самую малость навеселе, так что вернуться к работе с того места, на котором я ее прервала, для меня не составляло труда.
Теперь среди моих друзей насчитываются два алкоголика: ирландская писательница, которой ничего не стоит хлопнуть за завтраком стакан виски, и мой друг, радиожурналист, который требует, чтобы я держала на случай его прихода в моем практически пустом баре бутылку излюбленного им сорта шотландского виски. Нынче полным‑полно кошерных вин, как отечественных, так и импортных, — есть из чего выбирать, была б охота. И хотя моим знакомым, претендующим на утонченный вкус по части вин, я не готова в этом признаться, тем не менее, что правда, то правда: несмотря на приобретенную позднее склонность к рислингу из Эльзаса и сансеру из долины Луары, моя любовь к «Манишевицу» не угасла. Его не назовешь изысканным, частенько оно предмет насмешек, и все равно оно по‑прежнему самое мягкое из всех известных мне крепких напитков — чисто виноградное, овеянное воспоминаниями, наслаждение. 
Оригинальная публикация: HOW I LEARNED TO DRINK

Под низким небом Иерусалима
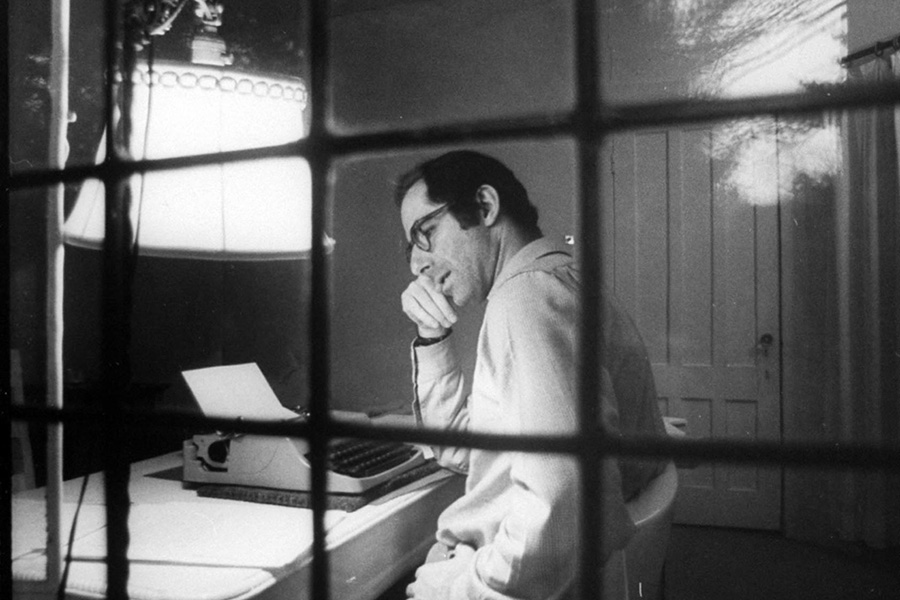
The New York Times: Лучшая книга Филипа Рота: 20 прозаиков, критиков и историков выдвигают свои версии

