Sonetchka
Сонечка прислала мейл 12 апреля, как раз в День космонавтики, когда‑то бурно отмечавшийся в Совдепии. Мейл был предельно лаконичным: «Я переехала в Конн. Работа в сист. упр. Ост. при встр. С.М. (203) 347–2198».
Саймон позвонил Сонечке, и они условились о встрече. Через три дня он приехал к ней — солнечным субботним утром. Сонечка жила в кондоминиуме, который был расположен в благополучном, явно еврейском пригороде Хартфорда, столицы штата Коннектикут. Съехав с хайвея по пути к сонечкиному дому, Саймон миновал две синагоги. Группы ортодоксальных евреев шли на утреннюю молитву. Женщины и девочки были одеты в длинные юбки, закрывавшие лодыжки. Мужчины в черных шляпах или кепках несли под мышками вышитые золотом подушки. Саймон ехал к Сонечке по этим улицам и невольно думал о жизни устойчивой и традиционной.
Он запарковал свою видавшую виды «тойоту» перед сонечкиным кондоминиумом и направился к парадной двери. Истинно русская фамилия Сонечки, Миронова, казалась чужеродной в ожерелье типично еврейских — Гольдштейн, Рубин, Мазо. Он нажал на кнопку звонка и тотчас услышал ее голос, приглушенный и чуть хриплый, как‑будто доносившийся из‑за океана. — Сёма, это ты? (Саймон когда‑то звался Семеном, и она по старинке назвала его русским уменьшительным). — Да, Сонечка, это я. — Входи!
Саймон взбежал на третий этаж по каменной лестнице, покрытой ковровой дорожкой. Сонечка ждала его, прислонив голову и левое плечо к полуоткрытой деревянной двери, которую она придерживала правой рукой. Она улыбалась, но улыбка ее была осторожно‑опасливой. Длинные прямые пепельные волосы, как и прежде, падали на сонечкины плечи, и тени вокруг век и губная помада были того же, матового кирпичного оттенка. В бежевой рифленой водолазке, черных брючках в обтяжку и замшевых лоуферах, она выглядела вполне американкой, с той долей шика, который выделял бы ее из толпы молодых нью‑йоркских профи. Но все же в Сонечке была какая‑то невесомость, эфемерность, как будто бы сила притяжения не полностью приковывала к земле ее изящную фигуру.
Саймон и Сонечка обнялись и поцеловались. Волна ее душистых волос прокатилась по его щеке. Сонечкины пальцы пробежались по его позвоночнику, словно пальцы пианистки по клавишам. — Ну вот, встретились, Сонечка. Сколько лет прошло? Восемь, девять? — Что‑то в этом роде. Проходи. Я сварила крепкий кофе.
Сонечка провела его через прихожую в гостиную, уставленную светлой мебелью из березы и тика, которая делала комнату просторнее и воздушнее. Белый кожаный диван и парное кожаное кресло стояли около окна. Он увидел на низком журнальном столике кофейный сервиз, кобальтовый с золотом, и массивную, переполненную до краев пепельницу в форме камбалы.
Сонечка пошла на кухню, принесла термос‑графин с кофе, и они уселись рядом на диване. — Я все хочу о тебе знать, Сонечка. — Все узнаешь, только подожди минутку! Я хочу тебе сказать, что читала твою статью в «New Criterion». Как–то просматривала журналы в нашем книжном и увидела твое имя на обложке. Конечно, купила этот номер. — Это со статьей о Феликсе Кроне, еврейском писателе из Праги? — Ну да! Представляю, как все это непросто, Саймон Б. Финн! Сочинять на английском! Получать дипломы лучших университетов! Когда ты станешь знаменитым профессором, я раструблю всем и каждому, что знала тебя еще в твои нежные восемнадцать. — Я не буду знаменитым профессором. При нынешнем рынке с работой в университетах так плохо, что дай Б‑г чтобы я вообще получил профессорское место. — Получишь обязательно. Ты всегда знал, чего хочешь от жизни. Такие, как ты, добиваются, чего они заслуживают. — В последней фразе прозвучала горечь, но Саймон знал, что это у Сонечки получилось непроизвольно.
Она положила кусок рассыпчатого черничного пирога на его тарелку. — Испекла вчера вечером. Я как раз начала снова готовить после того как переехала сюда из Нью‑Йорка. Знаешь, очень странно готовить для себя самой. — Я знаю, — сказал Саймон. — Я ведь сам себе готовлю с тех пор, как поступил в аспирантуру. Лучше расскажи, как ты оказалась в Америке? Что у вас там произошло? — Не знаю, с чего и начать… — сказала Сонечка и закурила тонкую коричневую сигарету. — Ты слышал, наверно, от Мики Зайцева — или еще от кого из нашей эстонской компании, как мы с Игорем поженились? — Кое‑что слышал, а остальное домыслил. Ты лучше сама. — Рассказать‑то я расскажу, хотя и не надеюсь, что ты поймешь. Неудачники не по твоей части. — Да нет, я все понимаю. Он служил в армии. Ты поехала его спасать. Это же классика! — И полнейший идиотизм. Я была в некотором роде не в себе, когда поехала к нему в часть, в Белоруссию. Эта одурь продолжалась и во время свадьбы. Игорь тогда приехал в отпуск и взял на себя все хлопоты. Его родители были категорически против нашей женитьбы, твердили только, что я буду у него камнем на шее. Вечной обузой. Что я разрушу его жизнь. Что я только хочу подцепить хорошего еврейского мальчика.
Затренькал телефон. Сонечка ждала и не снимала трубку, а звонивший не пожелал общаться с автоответчиком. Саймон скинул туфли и вытянул ноги поперек кофейного столика. — Знаешь что, Сема, давай я принесу тебе подушку, — предложила Сонечка. — Тебя ждет длинный рассказ.
Она вернулась из спальни с бархатной подушкой, которую подложила ему под голову, едва прикоснувшись ладонью к его затылку. — Игорь демобилизовался ранней осенью 1989‑го. Мы сразу сняли комнату, чтобы не жить вместе с его родителями, и, в общем, первые несколько месяцев все было хорошо. Потом родители Игоря решили эмигрировать, и он объявил, что мы тоже едем. Ему было легко — он‑то не оставлял родителей в Москве. Мы улетели поздней осенью, промозглым ноябрьским утром. Я рыдала все дорогу в аэропорт, а Игорь был зол и на меня, и на своих родителей. — Я прекрасно помню этот день, — тихо сказал Саймон. — День, когда мы улетали из Союза. Все это было ужасно: аэропорт, паспортный контроль… Помню, как все вы махали нам уже с той стороны границы. Вся наша компания, родительские друзья… Мама плакала навзрыд. — Но ты‑то хоть уехал вместе с родителями! — Да, с родителями, — сказал Саймон. — Все это было ужасно, — повторила вслед за ним Сонечка. — Мы прилетели в Нью‑Йорк. У отца Игоря была старшая сестра, которая жила в районе Форест Хиллз. Мы стали жить в «двухбедренной» квартире вместе с родителями Игоря. Я устроилась на работу. Вводила информацию в базы данных. А по вечерам в течение года ходила на компьютерные курсы. Потом я поступила на работу в банк, и с профессиональной точки зрения дела мои шли вполне успешно. Представь себе, почти два года я кормила всю семью. Я и вправду хорошо зарабатывала и вначале ничего не имела против того, что была основным добытчиком. Родители Игоря не знали английского. Его мать шила кое‑что на дому. — Помню, да‑да, — перебил ее Саймон. — Она занималась этим и в Москве. Когда бы мы с Микой Зайцевым ни забегали к ним, она то вязала свитер для очередного заказчика, то чинила манжеты или подкладку. Так я ее запомнил. Ее и ее рыбьи глаза.

Сонечка удивленно взглянула на него. — Отец Игоря не смог найти работу инженера и поэтому вместе с командой русских начал убирать туалеты в учреждениях и ресторанах. Он стал крепко пить, и когда был пьян, обзывал меня шиксой или русской блядью. Мать Игоря делала вид, что не слышит, отворачивалась. Строчила на своей швейной машинке. Если Игорю случалось быть дома в это время, он заступался за меня и грозился, что сломает отцу шею, если тот не заткнется. А потом, наедине, говорил мне, что я сама провоцирую его отца, и что он — Игорь — скоро рехнется «между молотом и наковальней». Иногда же отец, когда напивался, целовал мне руки, на колени вставал и долго и нудно просил прощения. Представляешь?
— Да. То есть нет, — ответил Саймон, стараясь не покраснеть от стыда за этого шикера — так его бабушка называла пьяниц‑евреев. От чувства стыда и вины за отца своего бывшего друга Игоря. — Все это было ужасно и омерзительно, — сказала Сонечка, добавляя себе горячего кофе из графина‑термоса. — Я умоляла Игоря снять квартиру отдельно от родителей, и в конце концов мы переехали. Игорь к тому времени почти не разговаривал с отцом. Но это не главное. Хуже всего было то, что Игорь так и не окончил университет, хотя ему оставалось проучиться всего два года, если бы он представил свои зачеты из «Промокашки». Я убеждала его, умоляла. Он панически боялся провала, боялся, что не сможет справиться с учебой наравне с американскими студентами. Ты ведь помнишь, какая у него была сила воли, когда вы общались еще в Москве. — Еще бы! Мы все считали, что у него железная воля и стальные нервы, — сказал Саймон, нанизывая один русский штамп на другой. — И вот представь себе — как будто все это осталось в Москве. — Сонечка, такое случается со многими иммигрантами. Так часто бывает. — Но почему же именно с нами?!
Она поднялась с дивана, накинула тонкую белую шерстяную шаль на плечи и опять закурила. — Так мы прожили еще три года. Я хорошо зарабатывала. Игорь подался в таксисты, работал чаще всего по ночам. Днем он отсыпался, читал… — Читал — что? — снова прервал ее Саймон. — Ты по‑прежнему интересуешься деталями, да? Читал он больше классиков: Толстого, Тургенева, Гончарова, Лескова. Чаще других Бунина. Ты ведь зачитывался Буниным, когда мы познакомились? — Да, я раньше дико любил «Темные аллеи», — задумчиво протянул Саймон. — Но больше я это читать не могу. Та же история с Гессе. — У меня здесь, в Америке, тоже изменились пристрастия. Или это возраст?.. Так или иначе, дома Игорь много читал и смотрел по видику русские фильмы. У него завелись дружки, которые тоже с трудом приживались в новой стране. Мы практически не виделись в течение недели. Я уходила на работу в половине восьмого утра, а вечерняя смена у Игоря начиналась в четыре часа. Правда, мы пытались вместе проводить время по выходным. Помню, как‑то раз мы поехали в Вермонт покататься на лыжах. — Когда это ты научилась кататься на горных лыжах? — спросил Саймон. — Не научилась. То есть научилась, но не тогда. В тот раз, еще по дороге в Вермонт, мы здорово поругались из‑за какой‑то ерунды. В результате Игорь катался один, а я просидела два дня в номере мотеля. Курила и убивала время у телевизора. Собственно, вот и все, что я могу тебе рассказать. Мы все больше и больше отдалялись друг от друга, обходясь без близости по нескольку месяцев. Он был слишком горд, чтобы просить об этом, а я была слишком замкнута в себе, чтобы попытаться соблазнить его. Хотя я, конечно, знала, что именно секс в прошлом сглаживал наши противоречия. Я хотела забеременеть, но безуспешно. Наверное, наш брак был обречен на провал с самого начала. Ничего у нас не получалось, вот и все! Я очень хотела, чтобы мы переехали из Нью‑Йорка в один из пригородов, но Игорь и слышать не желал об этом. Уже прошлой осенью наше общение было доведено до минимума. Потом у меня был роман с одним хорошим парнем, французом. Мы вместе работали. И это помогло мне выжить. Снова поверить в себя, что ли. Я знаю, что это звучит банально, но это так. Я поняла, что больше не могу с Игорем. Что должна уйти. — Как Игорь это воспринял? — спросил Саймон. — Сначала озверел. Потом занялся самобичеванием, винил себя во всем. «Хочу, чтобы все у нас было по‑другому…» и так далее. Я сначала молчала, а потом говорю ему: «Все, поздно уже». Мой адвокат начал готовить бумаги для развода. А через семь месяцев я получила потрясающее предложение здесь, в Первом Хартфордском банке. Теперь я старший вице‑президент по системному управлению. — Вот это да! А он не пытался навесить на тебя алименты? — Ну что ты. Игорь совсем не такой. У него много недостатков, но душа благородная. — Понимаю, — сказал Саймон смущенно, словно бы давным‑давно не слышал, чтобы кто‑нибудь употреблял это выражение. — Благородная душа, да‑да, конечно… и золотое сердце. — Не язви, пожалуйста. Не язви, Сема.
Сонечка подошла к двойной балконной двери и прижалась лбом к стеклу. Солнечный свет больше не проникал в комнату. За окном ручей торил свой путь, петляя между бугорчатых корней старых вязов. На гладкой лужайке тут и там пробивались сиреневые и белые подснежники. — Мне здесь хорошо, — сказала Сонечка, выпуская долгую струйку табачного дыма. — Здесь так спокойно. Я никогда не думала, что может быть так хорошо одной. Да, ты, наверное, проголодался. Я знаю одно очень симпатичное место для ланча — всего в нескольких милях отсюда.
В ее новеньком «саабе» они поехали в ресторан с видом на озеро и сосновый бор. Семейства с детьми обедали неторопливо, расслабленно, потягивали напитки, смаковали еду. В их глазах Сонечка и Саймон наверняка выглядели молодоженами, которые только начинали постигать тайны семейной жизни. После ланча они гуляли вокруг озера, и Саймон рассказывал Сонечке о девяти годах своей жизни в Америке и о биографии Феликса Крона, которую он задумал написать. Он поведал ей о своих влюбленностях, о помолвке с Норой Фрик и о том, как эта помолвка распалась. И еще о шести месяцах, которые он провел в Праге в 1992 году. Естественно, думал Саймон, для Сонечки это всего лишь выдуманные сюжеты, истории, столь же отстраненные, как те, что она могла прочитать в книгах или увидеть в кино. А вот ее жизнь с Игорем была для него абсолютно реальной, такой же реальной, как и его собственная жизнь.
Они стояли около пустынной детской площадки с качелями, песочницей и каруселью. Бродячий зверинец облаков уплывал на запад: кенгуру, медведи, слоны и даже раздувшийся до невозможности удав. Красный поплавок мальчишечьей удочки подпрыгивал над стальной гладью озера и погружался под воду. В сосновом бору дятел выстукивал конвульсивный ритм, вторя движениям поплавка. — Послушай, Сонечка, — сказал Саймон, почувствовав прилив чего‑то обнаженного, ранимого, поднимающегося откуда‑то из дальних тайников памяти. — Может быть, это не самое лучшее время для подобного разговора, но я боюсь, что в другой раз не смогу тебе этого сказать. Ну, прости меня, что ли. Тогда, давно, в Москве, я был таким самонадеянным болваном… Прости, что я был к тебе так жесток. Я тогда не умел по‑другому. Я ведь был всего лишь молодым московским котярой, игравшим в рыцарство. Прости меня, если можешь. — Сёмочка, мой родной мальчик. Я простила тебя давным‑давно. Вот только жаль, что уехала я из России не с тобой. Но прошлого не вернуть.
Они взглянули друг на друга и улыбнулись, потому что у них обоих были слезы в глазах. Они стояли над кромкой озера, бережно обняв друг друга. Стая канадских гусей уносила на север стоны тоски и крики разлуки.
Они вернулись к Сонечке домой, и Саймон помог ей приготовить обед: цыпленок табака (рецепт его матери), запеченная в духовке картошка с луком, салат из разнотравья с раскрошенным рокфором. Пока готовилась еда, они сидели рядом на диване, полуобнявшись, и пили кьянти, у которого был легкий аромат земляники. Шерстяной клетчатый плед, по виду еще московский, укрывал им ноги. Несколько раз трезвонил телефон, но Сонечка не обращала внимания на звонки. После ужина они снова уселись рядом на диване и принялись пить жасминовый чай с печеньем и абрикосовым вареньем. Они вспоминали Россию, детство, летние каникулы, которые проводили вместе с родителями в Эстонии, в Пярну. Вспоминали свою компанию пярнуских друзей, с которыми познакомились на пляже, когда им было по семь‑восемь‑девять лет… Саймону пора уже было возвращаться в Провиденс, и он попросил Сонечку пообещать, что она позвонит, если ей понадобится помощь. — И вообще давай‑ка приезжай ко мне в гости в Провиденс. Я ведь там долго не задержусь, — сказал Саймон. — Мне должны ответить из университетов, в которых я проходил собеседования. Неизвестно, в какую даль мне предстоит уехать. Ларами, Вайоминг? Флагстафф, Аризона?
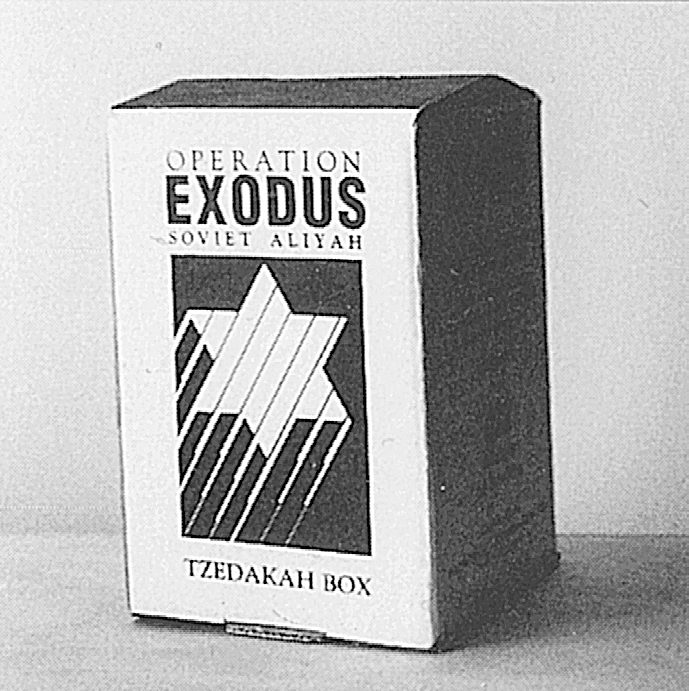
Уже почти в дверях он обернулся и спросил ее: «Сонечка, ты помнишь наш пикник, когда Мике Зайцеву исполнилось восемнадцать лет? Помнишь, в Валгеранне?» — Дурачок, конечно помню. У всех у вас, мальчиков, у тебя, у Миши, у Игоря, у Ильи топырились плавки, когда вы выходили из воды. Боже мой! Мне тогда было всего семнадцать. Я только что окончила школу. Мы были совсем дети.
Саймон поцеловал ее в лоб. — Помнишь, Сонечка, — сказал он, прикасаясь ладонью к ее щеке и вглядываясь в ее светло‑зеленые глаза. — Я тебе когда‑то сказал, что мы навсегда останемся близкими друзьями. Это ведь дружба с тех самых наших золотых пярнуских дней. Да еще летние романы, которые иногда соединяют людей на всю жизнь. Впрочем, ты это знаешь сама. — Пока, Сема! Счастливого пути. See you. Bye!
Он возвращался в Провиденс по голому хайвею, отпечатывая снимки с негативов памяти и перебирая детали того упоительного лета 1986‑го, когда у них с Сонечкой начинался роман. Потом Саймон вспомнил, что в первые месяцы в Америке, когда ностальгия сдавливала сердце, он, бывало, думал, конечно же не без ревности, что Сонечка заняла его место в их прежней компании, в их пярнуском братстве. Нет, он был не прав тогда! Теперь он понял, Сонечка заняла не его место, а место Игоря, образ которого постепенно растворялся, пока не исчез совсем, сначала из жизни Саймона, а теперь вот и из сонечкиной жизни…
В течение двух следующих недель Саймон звонил Сонечке несколько раз и разговаривал с ее автоответчиком, а потом закрутился в делах, связанных с поиском работы. В конце апреля, уже после того, как принял предложение преподавать в одном из бостонских университетов, он отправился в Бостон на целый день, чтобы пообщаться со своими новыми коллегами и подыскать квартиру. У Саймона еще оставалось время до встречи с агентом по сдаче квартир в Бруклайне, ближнем предместье Бостона, и он решил зайти в русскую кондитерскую — переждать полчаса за чашкой кофе. Хозяйка кафе, похожая одновременно на черепаху и на голубку, долго рассматривала Саймона томными глазами одесской красавицы, а потом спросила, «из каких мест» он «оригинально» происходит в России, а также «по какому бизнесу» приехал в Бостон. Саймон представился ей с той нарочитой сердечностью, которую в подобных случаях обрушивал на русских эмигрантов — в том смысле, что, мол, хорошо здесь на чужбине встретиться с земляком из России. Черепаха‑голубка вспомнила, что знавала когда‑то сводную сестру его матери, еще в давние годы, когда она (сестра матери) танцевала в кордебалете Большого театра. Хозяйка угостила Саймона куском макового глазированного рулета и, не переводя дыхания, заговорила о том, какие красивые ноги были у его сводной тетки. Саймон прервал ее болтовню, написал на бумажке телефон своей матери и, таким образом отвязавшись от черепахи‑голубки, уселся поблизости от пыльного окна и углубился в русскую газету. Он почти допил свой кофе и доел маковый рулет, когда ему попалась на глаза коротенькая заметка о русском таксисте, который застрелил свою бывшую жену у подъезда ее дома в Вест‑Хартфорде. 


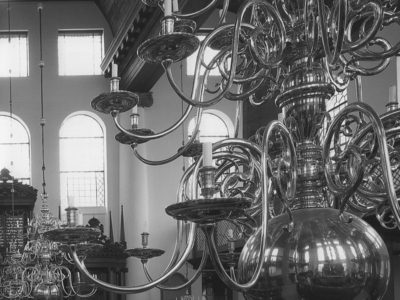
Судный день в Амстердаме

Майсы от Абраши


