Документальное повествование Давида Фишмана проливает свет на малоизвестную страницу истории Холокоста — спасение тысяч книг и рукописей в Виленском гетто силами небольшой группы узников, в составе которой были поэты и другая творческая молодежь.
Публикуем фрагменты новой книги с любезного разрешения издательства «Бомбора».
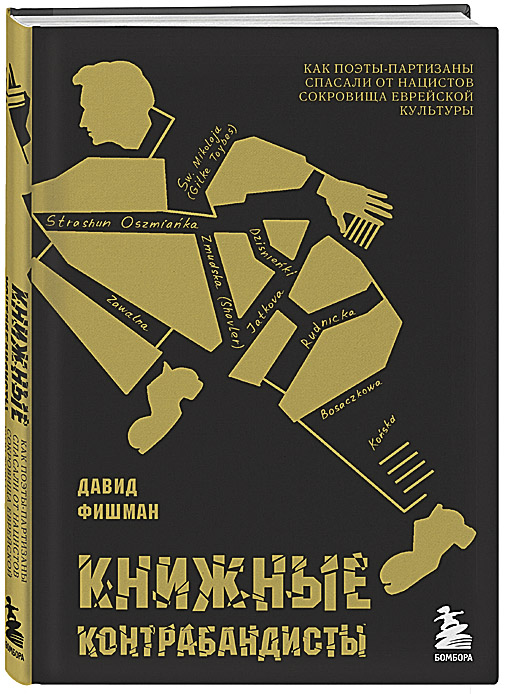
Вильна в оккупированной нацистами Польше. Июль 1943 года
Поэт Шмерке Качергинский возвращается в гетто после работы. Его бригада занимается подневольным трудом: сортирует книги, рукописи и произведения искусства. Часть из них будет отправлена в Германию. Остальные попадут в мусоросжигательные печи и на бумажные фабрики. Шмерке работает в Освенциме еврейской культуры, отвечает за отбор книг для вывоза — и тех, которые обречены на ликвидацию.
Если сравнить этот рабский труд с трудом других рабов в оккупированной нацистами Европе, то Шмерке хотя бы не роет окопы, чтобы остановить продвижение Красной армии, не расчищает своим телом минные поля, не вытаскивает трупы из газовой камеры, чтобы переправить их в крематорий. Тем не менее позади тяжелый день: Шмерке трудился в унылом зале библиотеки Виленского университета, до потолка заваленном книгами. Утром жестокий немец — начальник бригады — Альберт Шпоркет из Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга, застал Шмерке и еще нескольких работников за чтением стихотворения из одной из книг. Шпоркет, по профессии торговец скотом, разразился истошными криками. Вены у него на шее пульсировали. Он грозил работникам кулаком, швырнул книгу в другой конец помещения.
— Вы, жулики, называете это работой? Тут вам не гостиная! — Он предупредил, что, если такое повторится, им несдобровать. И захлопнул за собой дверь.
Весь день они работали и нервничали. Торговец скотом и с ними, и с книгами обращался как со скотиной: ее надо загружать работой, а потом отправлять на бойню. Если Шпоркет донесет в гестапо, им конец.
Сотрудница и возлюбленная Шмерке Рахела Крыньская, стройная школьная учительница с глубокими карими глазами, спросила:
— Ты сегодня все равно их понесешь?
Шмерке ответил с обычным своим кипучим энтузиазмом:
— Конечно. Вдруг этот чокнутый решит все разом отсюда отправить. Или сдать в утиль. Эти сокровища — для нашего будущего. Может, правда, не для нас, а для тех, кто нас переживет.
Шмерке обернул вокруг пояса старинный вышитый чехол для свитка Торы. Затянув потуже, засунул под новоявленный пояс четыре маленькие книжицы: старинные раритеты, опубликованные в Венеции, Салониках, Амстердаме и Кракове. Еще один крошечный чехол для свитка Торы надел вместо пеленки. Застегнул ремень, натянул рубашку, куртку. Теперь можно идти к воротам гетто.
Шмерке проделывал такое уже много раз, неизменно — со смесью упорства, возбуждения и страха. Он сознавал, на какой риск идет. Если поймают, его ждет расстрел, как его приятельницу певицу Любу Левицкую, у которой под одеждой нашли мешочек фасоли. Как минимум он получит от какого‑нибудь эсэсовца двадцать пять ударов дубинкой или кнутом. Заправляя рубашку, Шмерке оценил всю двусмысленность ситуации. Он — член коммунистической партии, давний убежденный атеист, с детства не ходивший в синагогу, сейчас рискует жизнью ради этих по преимуществу культовых предметов. Он будто ощущал пыль прошлых поколений на своей коже.

Очередь возвращавшихся с работы оказалась необычно длинной — она змеилась на целых два квартала перед воротами гетто. Из первых рядов прилетели новости. Обершарфюрер Бруно Киттель лично проводит досмотр. Киттель — молодой, рослый, темноволосый и красивый — был профессиональным музыкантом и прирожденным хладнокровным убийцей. Иногда он являлся в гетто и расстреливал узников из чистого удовольствия. Останавливал человека на улице, предлагал сигарету и спрашивал: «Огоньку не хотите?» Человек кивал, а Киттель выхватывал пистолет и пускал ему пулю в голову.
В присутствии Киттеля охранники‑литовцы и члены еврейской полиции гетто проводили обыск дотошнее обычного. Крики узников, которых избивали за попытку сокрытия еды, разносились на много кварталов. Рабочие, стоявшие рядом со Шмерке, запустили руки под одежду. На мостовую падали картофелины, ломти хлеба, овощи, мелкие поленья. На Шмерке зашипели — округлость его фигуры выглядела слишком красноречиво. Среди толпы людей с оголодавшими, изработавшимися телами его неожиданно пухлый торс выделялся слишком откровенно; тем не менее Шмерке невозмутимо двигался к пункту пропуска.
— Бросьте все. Бросьте!
Но Шмерке и не думал разгружаться. Он понимал, что его это не спасет. Допустим, он оставит книги на древнееврейском и чехлы для свитков Торы лежать на улице: немцы сразу поймут, что их бросил кто‑то из его бригады. Книги в отличие от картофелин снабжены экслибрисами. Киттель может распорядиться расстрелять всю бригаду — в том числе Рахелу и ближайшего друга Шмерке, тоже поэта, Аврома Суцкевера. Так что Шмерке решил положиться на волю случая и мысленно подготовился к неизбежным ударам.

Его соседи по очереди еще раз перепроверили карманы на предмет монет или бумаг, способных вызвать гнев Киттеля. Шмерке пробрала дрожь. Очередь, разрастаясь, перегородила движение на Завальной, одной из центральных торговых магистралей Вильны. Пешеходы‑неевреи останавливались, чтобы поглазеть на спектакль, некоторые подбирали брошенную контрабанду.
Вдруг по толпе пронеслось:
— Ушел внутрь, в гетто!
— Вперед, быстрее!
Судя по всему, Киттелю наскучило надзирать за монотонными обысками, и он решил прогуляться по своему княжеству. Толпа ринулась вперед. Охранники, изумленные и обрадованные уходом Киттеля, обернулись посмотреть, куда он направляется, и не пытались остановить тех, кто рвался внутрь. Шмерке прошел через ворота — книги крепко прижаты к телу — и услышал за спиною завистливые голоса.
— Везет же некоторым!
— А я картошку на улице выбросила!
Они понятия не имели, что он несет не еду.
Когда подошвы его ботинок застучали по камням мостовой на Рудницкой улице внутри гетто, Шмерке запел песню, которую написал для молодежного клуба:
Молод каждый, каждый, каждый, если годы
В нем не погасили жар,
В новом мире, мире света и свободы
Станет юным тот, кто стар!

В потайном подземном бункере под гетто — вырытой в сырой почве пещере с каменным полом — книги, рукописи, документы, театральный реквизит и культовые предметы прятали в металлические канистры. Ближе к ночи Шмерке присовокупил свои сокровища к содержимому этого холодного хранилища. Прежде чем запереть скрытую дверь в потайную сокровищницу, он попрощался с вышитыми чехлами для свитков Торы и другими древностями, нежно их приласкав, будто собственных детей. А потом Шмерке, всегда остававшийся поэтом, подумал: «Настоящее наше темно, как этот бункер, но сокровища нашей культуры сияют обещанием светлого будущего» .
Контрабанда книг как искусство
Сразу после того как в июне 1942 года началось уничтожение книг, Герман Крук принялся подбивать членов «бумажной бригады» выносить книги с рабочего места. Многие согласились сразу, думая: «Я все равно долго не проживу. Так отчего бы не сделать хорошее дело, не спасти какие‑то материалы?»
Крука порадовали такие отклики и первые результаты: «Все пытаются помочь и многое делают. Поразительно, что люди готовы рисковать жизнью ради бумажки. Каждый клочок может стоить им головы. Однако находятся идеалисты, притом весьма ловкие» .

Герман Крук
Откладывать в сторону материалы, предназначенные к выносу, было несложно. Здание было завалено грудами книг и бумаг. Всего‑то и нужно, что засунуть ценную книгу или рукопись в одну из этих груд, пока Альберт Шпоркет и члены его команды смотрят в другую сторону, а потом забрать оттуда и унести. В случае если немцев в помещении не было, можно было даже сложить на полу отдельную кучу «на вынос».
Каждый невольник принимал тысячи сиюминутных решений по поводу того, что отложить для спасения. Времени на размышления не было, однако сложилось несколько обязательных правил.
— Книги: откладывать для выноса не более одного экземпляра. Дубликаты пусть отправляются в Германию или на переработку. Поскольку «бумажная бригада» работала с фондами многих библиотек, дубликаты попадались часто.
— Книги: малоформатные книги и брошюры легче выносить под одеждой, чем большие фолианты — Талмуды или альбомы. Большие книги следует откладывать в сторону внутри здания ИВО, потом можно организовать доставку в гетто на грузовике.
— Рукописи: Шмерке и Суцкевер очень высоко ценили рукописи художественных произведений и письма известных писателей. Оба были поэтами и понимали, как важно сохранить литературное наследие. Кроме того, письма, стихи и рассказы были материалами малообъемными, их с легкостью можно было спрятать на себе.
— Архивы: неразрешимая проблема. Архивные собрания были слишком велики, чтобы вынести их на себе. А выбирать один «бриллиант» — важнейший документ из тысячестраничного собрания — было некогда. Большую часть архивов «бумажная бригада» предназначала для отправки в Германию. Некоторые фрагменты отложили, чтобы вывезти на грузовике.
— Произведения искусства (картины и скульптуры): вывозить на грузовике.
Члены бригады пришли к выводу, что безопаснее всего спрятать книги и документы внутри гетто, среди собратьев‑евреев. Однако, с точки зрения немцев, незаконный внос материалов в гетто был серьезным преступлением по двум причинам. Во‑первых, речь шла о краже имущества с рабочего места. Иоганнес Поль и Шпоркет недвусмысленно заявили, что из этого здания материалы могут уходить только в двух направлениях: в Германию и в утиль. Во‑вторых, существовал общий запрет на внос книг и документов в гетто, он распространялся на всех работавших вовне.
К концу рабочего дня члены бригады оборачивали бумаги вокруг тела, засовывали предметы под одежду. В долгие холодные зимние месяцы заниматься контрабандой было удобнее: работники ходили в длинных пальто и надевали под них несколько слоев одежды. Были также сшиты специальные пояса и подвязки, их набивали книгами и бумагами.
Однако, чтобы «загрузиться», нужно было взять пальто из деревянной лачужки рядом со зданием, а там обитала их врагиня, бывшая уборщица из ИВО. Она иногда замечала, как работники засовывают под пальто бумаги, и доносила об этом Вирблису, дежурному охраннику. По счастью, Вирблис не слишком серьезно относился к ее словам: теткой она была сквалыжной и часто выдумывала всякую напраслину, так что он не трудился передавать ее жалобы сотрудникам ОШР .
Когда группа отправлялась из ИВО в гетто, всех мучил один и тот же вопрос: кто сегодня дежурит на воротах? Если полицейские из гетто и литовцы, проблем, скорее всего, не возникнет. Осматривали они поверхностно, особенно ленились охлопывать членов «бумажной бригады». Охранникам было прекрасно известно, что эти люди несут всего лишь какие‑то бумажки, а не продукты питания, что считалось более серьезным нарушением. Некоторые полицейские порой даже просили членов «бумажной бригады» принести им в следующий раз с работы интересный роман.
Однако если у ворот поджидали немцы, например Мартин Вайс, начальник полиции, Франц Мурер, заместитель гебитскомиссара по еврейским делам, или командир отряда СС Бруно Киттель, ставки менялись. Немцы безжалостно избивали всех, у кого находили хоть какое‑то подобие контрабанды. Мурер часто являлся с инспекцией и заставал всех врасплох. Если он обнаруживал у работника или работницы хлеб или деньги, спрятанные под пальто, он раздевал провинившихся догола, избивал кнутом и бросал в тюрьму. Те, кого Мурер сажал в тюрьму гетто, как правило, выживали. А вот те, кого он отправлял в Лукишки, потом чаще всего оказывались в Понарах .

«Кто нынче на воротах?» — это был вопрос жизни и смерти.
По пути с улицы Вивульского невольники узнавали у членов других бригад, только что вышедших из гетто на ночную смену, про ситуацию у ворот. Если дежурили немцы, рассматривалось несколько вариантов действий: свернуть и сделать круг по соседним кварталам — выгадать время, а там немцы, глядишь, и уйдут. Можно было оставить материалы, по крайней мере на время, у евреев, живших в доме для рабочих «Кайлис» — он находился неподалеку от ИВО. Но бывали случаи, когда группа подходила к воротам слишком близко — повернуть незамеченными уже бы не удалось — и приходилось проходить досмотр у немцев .
Шмерке был дерзок до умопомрачения. Однажды он среди бела дня принес к воротам огромный потертый том Талмуда и пояснил вооруженному охраннику‑немцу: «Мой начальник, Шпоркет, велел забрать эту книгу в гетто и заново переплести в мастерской при библиотеке». Гестаповец и помыслить не мог, что этот еврей‑коротышка способен на столь наглую ложь, которая может стоить ему жизни, и Шмерке пропустил .
Иногда контрабандистам просто везло. Мурер обнаружил в кармане у Рахелы Крыньской серебряный бокал для вина, и все испугались, что Рахеле конец. Однако она сказала Муреру, что принесла бокал в подарок лично ему, плюс добавила пару дорогих кожаных перчаток для его жены. По непонятной причине заместитель гебитскомиссара повелся на эту выдумку — или согласился на взятку — и пропустил Рахелу беспрепятственно. В тот день у него было хорошее настроение .
Суцкевер оказался необычайно изобретательным книжным контрабандистом. Однажды он получил от Шпоркета разрешение пронести в гетто несколько пачек макулатуры в качестве топлива для домашней печки. Документ он предъявил охранникам у ворот, а пачки держал в руках. В «макулатуре» были письма и рукописи Толстого, Горького, Шолом‑Алейхема и Бялика; полотна художника Шагала и уникальная рукопись Виленского Гаона. В другом случае Суцкеверу удалось внести в гетто скульптуры Марка Антокольского и Ильи Гинцбурга, картины Ильи Репина и Исаака Левитана: при помощи друзей, имевших нужные связи, он привязал их к днищу грузовика .
Не у всех историй были столь же счастливые финалы: случалось, Шмерке и прочих избивали у ворот, иногда немцы, иногда полицейские из гетто, когда получали распоряжение «ужесточить» осмотры. Однако в Понары никто не попал. Им просто повезло .
Рахела Крыньская вспоминает, что, хотя дело было рискованное, контрабандой занимались почти все члены «бумажной бригады», в том числе множество работников из «технической бригады», отвечавших за перевозку, — те, кто делал коробки и ящики, паковал книги, перемещал. Один из таких технических работников завел ящик для инструментов с двойным дном и переносил книги и документы в этом тайнике, под молотком, гаечным ключом и плоскогубцами .
Зелиг Калманович снял свои возражения и присоединился к контрабандистам. Он знал, что, поскольку квота на вывоз в Германию составляет 30%, многие ценные вещи, если их не вынести, будут уничтожены. Деятельность своих товарищей он считал духоподъемной, способом нравственного сопротивления, и благословлял книжных контрабандистов, будто набожный раввин: «Работники спасают от гибели все, что могут. Да будут они благословенны за то, что рискуют жизнями, да защитят их крыла Б‑жественного Присутствия. Да пребудет <…> милость Г‑сподня со спасителями, и да дарует он нам право увидеть зарытые письмена в мире» .

Шмерке впоследствии вспоминал: «Жители гетто смотрели на нас как на ненормальных. Они вносили в гетто продукты под одеждой, в обуви. Мы вносили книги, листы бумаги, иногда — “Сефер Торы” или “мезузы”». Перед некоторыми членами «бумажной бригады» стояла непростая нравственная дилемма: брать с собой книги или еду для родных. Некоторые узники критиковали контрабандистов за то, что во времена, когда речь идет о жизни и смерти, их волнует судьба каких‑то бумажек. Калманович с чувством отвечал, что книги потом не вернешь: «Они не растут на деревьях» .
После того как материалы удавалось пронести на территорию гетто, их еще нужно было где‑то спрятать. Проще всего было передать их Круку, который помещал самые ценные вещи в свою книжную «малину», а менее редкими экземплярами пополнял библиотеку гетто. Крук вел карточный каталог, куда вписывал все находившиеся в его руках сокровища, указывал их происхождение. Вещи, «украденные» из помещения ОШР, вписывались как «поступившие из той самой организации». Если написать «из Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга», оставишь свидетельство о краже — вдруг каталог попадет в руки немцев .
Однако никто не мог гарантировать, что библиотека гетто и «малина» Крука уцелеют. А если немцы ворвутся в здание и заберут часть коллекции? Безопаснее было распределить сокровище по множеству небольших тайников. По воспоминаниям Суцкевера, таких тайников было десять, а запомнил он адреса семи: на Немецкой улице (в здании, где жили он, Шмерке и доктор Даниэль Файнштейн); на Страшуна, 6 (в библиотеке гетто), в домах номер 1, 8 и 15 по улице Страшуна; на улице Святого Иоанна Крестителя и в бункере на Шавельской улице, 6.
Самыми ценными предметами, которые Суцкевер вырвал из немецких когтей, были дневник Теодора Герцля — отца современного сионизма, а также актовая книга клойза Виленского Гаона. Они были обнаружены на достаточно раннем этапе и пронесены в гетто; их держали в двух разных тайниках .
Были и другие способы прятать спасенное. Шмерке и Суцкевер передали множество предметов друзьям, полякам и литовцам, которые приходили к ним в гости в обеденный перерыв. Она Шимайте, библиотекарь из Виленского университета, забрала пачку рукописей И.‑Л. Переца и, по договоренности с коллегами, спрятала их в университетской библиотеке. Поэт‑литовец Казис Борута прятал коробки с документами в Литературном институте при Литовской академии наук . Некоторые ценные материалы Суцкевер передавал Виктории Гжмилевской, имевшей связи с польским подпольем. Когда он вручил ей документ, подписанный польским борцом за свободу Тадеушем Костюшко, она опустилась на колени и поцеловала его имя на странице. Впоследствии Виктория рассказывала, что, когда она передала этот документ участникам польского сопротивления, реакция была такая, будто искра попала в пороховой погреб .
Однако все больше материалов увозили на переработку, и стало ясно, что «бумажная бригада» выигрывает сражения, но проигрывает кампанию. Спасти удавалось лишь крошечную толику. Весной 1943 года Суцкевер изобрел новую тактику. Он решил создать «малину» в самом здании ИВО. Тем самым откроется новый канал спасения — возможно, нужда в контрабанде отпадет вовсе.
Изучив архитектуру здания, Суцкевер обнаружил рядом с балками и стропилами на чердаке большие полости. Нужно было одно — отвлечь поляка‑охранника Вирблиса, чтобы в обеденный перерыв Суцкевер и его друзья могли перетаскивать материалы на чердак. По счастью, Вирблис очень переживал, что из‑за войны ему пришлось бросить учебу, и с радостью принял предложение двух членов бригады, доктора Файнштейна и доктора Гордона, позаниматься с ним в отсутствие немцев математикой, латынью и немецким языком. Стоило педагогам и их ученику погрузиться в учебу, как другие члены «бумажной бригады» принимались таскать материалы на чердак .
Тут самое время сделать паузу и задаться простым вопросом: почему? Почему эти мужчины и женщины готовы были рисковать жизнью ради книг и бумаг? По сути, тем самым они провозглашали свое мировоззрение и воплощали в жизнь свои убеждения. Мировоззрение их заключалось в том, что литература и культура являются высшими ценностями, они ценнее жизни отдельного человека или группы людей. Будучи убеждены, что скоро погибнут, члены «бумажной бригады» сделали выбор: посвятить остаток жизни тому, что действительно важно, а если понадобится, то и принять за это смерть. Что касается Шмерке, книги в молодости уберегли его от преступлений и отчаяния. Настало время отплатить им за это сторицей. В душе Абраши Суцкевера жила мистическая вера, что поэзия — это сила, одухотворяющая всю жизнь. Пока он хранит верность поэзии — пишет, читает и спасает стихи, — он не умрет.
Кроме прочего, своими поступками книжные контрабандисты выражали веру в то, что еврейский народ выживет и после войны, и тогда ему вновь понадобятся сокровища его культуры. Кто‑то уцелеет, и тогда они достанут эти предметы из тайников, с помощью которых можно будет возродить еврейскую культуру. В самые темные часы истории Виленского гетто было трудно понять, произойдет все это или нет.
И наконец, в качестве гордых граждан еврейской Вильны члены «бумажной бригады» верили в то, что сама сущность их города сокрыта в книгах и документах. Если спасти книги из библиотеки Страшуна, документы из ИВО и рукописи из Музея Ан‑ского, дух литовского Иерусалима не иссякнет, даже если здешние евреи окажутся обречены. Калманович выразил это в суровых словах: «Возможно, после войны в Вильне и останутся евреи, но писать еврейские книги здесь будет некому».
Суцкевер подтвердил свою веру в пользу деятельности «рабочей бригады», написав в марте 1943 года стихотворение, которое называется «Пшеничные зерна». Он изобразил в нем себя: он бежит по улицам гетто с «еврейским словом» в руках, приласкав его, точно ребенка. Листы пергамента взывают к нему: «Спрячь нас в своем лабиринте!» Он закапывает спасенные тексты в землю, и его душит отчаяние. Однако ему становится легче, когда он вспоминает старинную притчу: египетский фараон выстроил себе пирамиду и велел слугам положить в гроб несколько пшеничных зерен. Прошло девять тысяч лет, гроб вскрыли, обнаружили там зерна, посадили в землю. Из зерен взошли многочисленные и пышные ростки. Когда‑то, пишет Суцкевер, зерна, которые он посадил в виленскую почву — посадил, не закопал, — тоже принесут свои плоды.
Эфшер ойх велн ди вертер
Дервартн зих вен аф дем лихт —
Велн ин шо ин башертер
цеблиен зих ойх умгерихт?
Ун ви дер уралтер керн
Вос хот зих фарвандлт ин занг
Велн ди вертер ойх нерн,
Велн ди вертер гехерн
Дем фолк, ин зайн эйбикн ганг.
Слова, вопреки всем сомненьям,
Вернутся на свет после нас,
И ярким, нежданным цветеньем
Взойдут в предначертанный час.
Как в колос на стебле высоком
Зерну суждено прорасти,
Слова напитаются соком,
Слова станут истинным оком
Народа в извечном пути .
Силы и воодушевление члены «бумажной бригады» черпали, помимо прочего, в осознании того, что ИВО и его довоенный директор Макс Вайнрайх живы и здоровы в Америке. Вайнрайх обосновался в Нью‑Йорке в 1940 году и превратил местный филиал института в его головное отделение. Крук и Калманович были вне себя от радости, когда до них дошли отрывочные сведения о том, что ИВО возобновил в Америке свою деятельность. Как ни странно, источником этих новостей стал сам Поль.
Поль был постоянным читателем газеты Yiddish Daily Forward и вырезал оттуда материалы, которые, по его мнению, служили подтверждением нравственной ущербности и злокозненности евреев. (Любые высказывания против преследования евреев он считал проявлением антинемецкой «злокозненности».) В одном из номеров газеты он нашел материалы о проведении в Нью‑Йорке 8–10 января 1943 года конференции ИВО и, закончив чтение, показал заметку Калмановичу. В ней упоминались лекции нескольких довоенных друзей и коллег Калмановича — ученых, которые успели спастись из Варшавы и Вильны. Говорилось также, что на конференции принято официальное решение о переводе штаб‑квартиры ИВО в Нью‑Йорк. Калманович, совершенно ошеломленный, помчался в библиотеку гетто, чтобы поделиться новостями с Круком. Они обнялись, по щекам покатились слезы радости. Крук пишет в дневнике:
Только находясь в Виленском гетто и пережив все то, что пережили мы, зная, что стало с ИВО здесь, можно понять, каково нам было получить этот привет от американского ИВО и в особенности от тех, кто остался жив, кто восстанавливал еврейскую науку.
<…>
Мы с Калмановичем пожелали друг другу выжить, чтобы поведать миру свою историю, в особенности главу под названием «ИВО». Судьба в своей жестокости заставила нас нести бремя страшной трагедии гетто, но нас переполняет радость и удовлетворение при мысли о том, что все, связанное с евреями и идишем, живо и сохраняет наши общие идеалы .
Члены «бумажной бригады» были убеждены, что литовский Иерусалим полностью не уничтожен. Живая его часть теперь в Нью‑Йорке. Уцелевшие ученые когда‑нибудь унаследуют сохраненные книги и документы. Мысль эта стала лучом надежды во тьме.
Из‑под земли
10 июля 1944 года Шмерке Качергинский вошел в Вильну в составе смешанного партизанского отряда. Советская армия уже вела с немцами уличные бои. Отряд Шмерке подошел с юга и под гул тяжелой артиллерии двинулся по узким улочкам и переулкам к центру города. Рядом с железнодорожным полотном на Торговой улице их встретил шквальный пулеметный огонь. Погибли двое поляков из подразделения, было решено дальше не двигаться. Немцы оставили город только два дня спустя — некоторые из них сдались в плен. Добравшись 12 июля до центра Вильны, Шмерке увидел на улицах десятки тел убитых немецких солдат. «Я вспомнил об их бесчеловечности и лишь пожалел о том, что им выпала такая легкая смерть».
Некоторые из центральных улиц города — Мицкевича, Большая, Немецкая — были разрушены и в огне. Шмерке шел по знакомым улицам, среди руин и пожаров, растерянный и ошеломленный. В дневнике он записал: «Я не знал, куда пойти, но ноги несли куда‑то. Знали, куда мне нужно. Повели вверх по склону. <…> Внезапно я оказался у начала любимой моей улицы Вивульского и — о горе мне! — у здания ИВО. Оно было неузнаваемо, в руинах. Казалось, что так основательно не было разрушено больше ни одно здание в городе». Шмерке ощутил непереносимую боль, тело вот‑вот разорвется на куски. Сердце сжалось, дало перебой: Шмерке понял, что Институт изучения идиша, ИВО, уничтожен — и все те материалы, которые они с коллегами прятали на чердаке, превратились в пепел и золу .

Шмерке, оцепеневший от ужаса, направился на Шавельскую улицу, 6, она находилась внутри гетто. Именно здесь помещался заглубленный бункер, где ФПО хранила оружие, а «бумажная бригада» — книги. Добравшись до места, он понял, что в последнее время в бункере скрывались от бомбежек. Он посветил фонариком во тьму и стал голыми руками отгребать песок с земляного пола. Внезапно перед глазами мелькнули листы бумаги, и Шмерке выдохнул от радости и облегчения. Материалы здесь, они целы. Радость оказалась недолгой. Через минуту он вышел из бункера, его ослепил солнечный свет, и он подумал: «Какое яркое солнце, но для меня мир никогда еще не был темнее» . На улицах он не увидел ни одного еврея.
Официально город был освобожден Красной армией на следующий день, 13 июля. Еврейская партизанская бригада «Мстители» во главе с Абой Ковнером, Виткой Кемпнером и Ружкой Корчак вошла в Вильну и собралась перед пустым гетто. Там они встретили Шмерке и других бойцов‑евреев из «вильнюсской» бригады. Радость мешалась с раздиравшей душу болью: Вильна свободна, но это не прежний город — он перестал быть литовским Иерусалимом.
В день освобождения Вильны там находился и Илья Эренбург, самый знаменитый военный корреспондент в Советском Союзе, автор посвященной Суцкеверу статьи в «Правде». Эренбурга тронул вид уцелевших узников гетто с автоматами за плечом, он обнялся с ними. Теплое приветствие известного в СССР человека подняло настроение бойцам‑евреям — и, кроме прочего, Эренбург передал им из Москвы приветы от Абраши .

Уже на следующей неделе в городе начали появляться евреи. Некоторые скрывались под землей, в канализации; другие — в подвалах домов поляков и литовцев. В город также хлынули те, кто прятался в соседних городках или в лесу.
Поскольку Шмерке был партизаном, советское командование выделило ему полностью обставленную трехкомнатную квартиру на главной магистрали города — улице Мицкевича, переименованной в проспект Гедемина. В квартире раньше жил важный немецкий чиновник, но он поспешно бежал, оставив даже еду и одежду. Шмерке впервые за десять месяцев выспался в кровати .
13 июля, в день освобождения Вильны, Суцкевер находился в подмосковном писательском санатории в Воскресенске. Его реакция на новости, опубликованные на первой полосе газеты «Правда», напоминала реакцию Шмерке: «Я не в состоянии оставаться в санатории после освобождения Вильны. Я должен вернуться в родной город и своими глазами увидеть, насколько сильно он разрушен». Суцкевер возвратился в Москву и тут же отправился к Юстасу Палецкису, президенту советской Литвы, который в свое время вытащил его из Нарочи. На сей раз Суцкевер попросил помочь ему с отправкой в обратном направлении, назад в Вильну, как можно быстрее. Палецкис, который и сам собирался домой, ответил: «Хорошо, Абраша, поедем или полетим вместе».
Они поехали; ночью 18 июля Суцкевер и Палецкис прибыли на армейском автомобиле в советский Вильнюс. Вдоль шоссе, по которому они ехали, валялись смердящие трупы немецких солдат. «Мне этот запах был слаще любых духов, — записал Суцкевер в дневнике, а ниже задумчиво добавил: — Если бы не спрятанные культурные ценности, мне вряд ли бы хватило сил вернуться в родной город. Я знал, что любимых людей там больше нет. Знал, что убийцы казнили их всех. Знал, что ослепну от боли, увидев Вилию. Но еврейские буквы, которые я посеял в виленскую почву, сияли мне за тысячи километров» .
На следующее утро отряд партизан отправился на Вивульского, 18, и глазам Суцкевера впервые предстало разрушенное здание. Именно в этот момент он понял, что его Вильны, столицы культуры на идише, больше не существует. Члены отряда дали клятву извлечь на свет остатки сокровищ еврейской культуры. Шмерке высказал горькую, но трезвую оценку: подавляющее большинство книг и документов уничтожено на бумажных фабриках, малая часть вывезена в Германию и только «минимальное число» спасено усилиями «бумажной бригады» . Теперь их долг перед потомками и погибшими товарищами — сохранить эту крошечную часть.
Тяжелым ударом для Шмерке и Абраши стала новость об участи их коллег по «бумажной бригаде». Зелиг Калманович скончался в Нарве. Доктор Якоб Гордон, работавший над переводами, погиб в Клооге; Ума Олькеницкая, художник‑график и хранительница театрального архива ИВО, была вывезена в Треблинку, а доктор Даниэль Файнштейн, социолог, читавший лекции в гетто, убит всего за два дня до освобождения города . Доктор Дина Яффе, делавшая переводы, погибла в Треблинке, преподаватель Израиль Любоцкий, разбиравший книги на иврите, скончался в эстонском трудовом лагере. Давид и Хая Маркелесы (родители Нойме Маркелеса), оба педагоги, были расстреляны в Понарах . Илья Цунзер, который разбирал материалы по музыке, умер от тифа в Эстонии, в нарвском лагере. Раввин Авраам Нисан Иоффе, член научной группы, был обнаружен немцами в тайнике в ходе ликвидации гетто и расстрелян в Понарах . Мендель Боренштейн и Михал Ковнер, бойцы ФПО, выбрались из гетто, но погибли в Нарочи от немецкой пули .
После освобождения Вильны в город вернулись шестеро выживших членов «бумажной бригады»: Шмерке, Суцкевер, Ружка Корчак, Нойме Маркелес, Акива Гершатер и Леон Бернштейн. Еще двое были интернированы в немецкие концлагеря: Герман Крук и Рахела Крыньская. Крук погиб в Лагеди в сентябре 1944 года, а Крыньская выжила, но в Вильну так и не вернулась. К шестерым уцелевшим присоединился Аба Ковнер, бывший командир ФПО. Он тоже считал, что спасение книг и документов — их священный долг и дело первостепенной важности .
Прежде всего были обследованы десять известных тайников — с разными результатами: «малины» в домах № 1 и 8 по улице Страшуна оказались целы, равно как и бункер на Шавельской улице. Тайник на Немецкой, 29, где проживали в гетто Суцкевер и Шмерке, оказался недоступен, засыпан обломками упавшего на него здания. Книжную «малину» в библиотеке гетто на Страшуна, 6 немцы обнаружили незадолго до отступления. Они вытащили оттуда все материалы и сожгли во дворе .
Шмерке и Суцкевер обратились к Генрику Зиману, члену ЦК компартии Литвы, и попросили официально поддержать операцию по спасению сокровищ. Зимана они хорошо знали по партизанскому отряду — он был заместителем командира. До войны Зиман преподавал в еврейской школе в Ковне, но, сделавшись партизанским командиром, взял литовское подпольное имя Юргис и называл себя литовским коммунистом. В лесу далеко не все знали, что он еврей. Сохраняя позу интернационалиста, Зиман ответил на просьбу Шмерке и Суцкевера с демонстративным безразличием: у Литвы, только что вернувшейся в состав СССР, есть более насущные задачи .
Трудно сказать, как именно Суцкевер связался с Юозасом Банайтисом, главой отдела искусства наркомата просвещения, но Суцкеверу удалось убедить его поддержать их начинание. 25 июля Банайтис выдал ему написанный от руки документ, дававший право «забрать и перевезти по адресу проспект Гедемина, 15, квартира 24 еврейские культурные и художественные ценности, разрозненные и спрятанные в разных точках города во время немецкой оккупации» .
Суцкевер, Шмерке и Ковнер встретились на следующий день, 26 июля, и основали Еврейский музей культуры и искусства. Себя они назвали «инициативной группой» и направили представителям власти докладную записку, в которой запрашивали официальное финансирование. Они знали, что в СССР каждое учреждение культуры должно относиться к тому или иному министерству — комиссариату. Независимых частных музеев в СССР существовать не могло. Банайтис выдал Шмерке временное удостоверение, подтверждавшее, что он является сотрудником «еврейского музея, находящегося в процессе создания» .
Шмерке, Суцкевер и Ковнер замыслили музей как продолжение деятельности одновременно и «бумажной бригады», и ФПО. Цель их состояла в том, чтобы собрать и сохранить предметы довоенной еврейской культуры, при этом особо важным делом они считали сбор материалов по истории гетто и истории преступлений, совершенных немцами. Они решили для себя, что обязательно найдут архивы гестапо — там должны содержаться подробные сведения о тех, кто совершал массовые убийства. Кроме того, было решено подготовить анкету для уцелевших, свидетелей преступлений. Наконец, инициативная группа решила, что, когда музей получит официальный статус, она попросит включить его в состав вильнюсской чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко‑фашистских захватчиков и их сообщников. Такие чрезвычайные комиссии были советскими официальными органами, собиравшими показания и документы, готовившими судебные дела. Итак, инициативная группа намеревалась использовать самые разные материалы (архивы гетто, гестапо, свидетельства выживших), дабы убийцы пошли под суд и понесли наказание . Еврейский музей виделся им центром продолжения борьбы с немецкими убийцами и их местными пособниками, только вместо пушек и мин они собирались пользоваться судами и словами свидетелей.
Работа в музее началась незамедлительно. Директором стал Суцкевер, Шмерке — секретарем и главным администратором, Ковнер возглавил операцию по поиску и сбору материалов. Впрочем, разделение труда было достаточно условным, роли и должности несколько раз менялись в течение следующих нескольких недель.

В первый момент поиски сосредоточились на бункере на Шавельской улице, представлявшем собой подземный лабиринт проходов, подвалов, отсеков. Шмерке так описывал эту операцию в дневнике: «Каждый день выносим из бункера мешки и корзины с сокровищами — письмами, рукописями, книгами знаменитых евреев. <…> Поляки, живущие во дворе, постоянно вызывают милицию и других представителей власти: думают, что мы ищем золото. Не понимают, зачем нам нужны грязные клочки бумаги, засунутые между перьями в подушки и одеяла. Никто из них понятия не имеет, что мы нашли письма И.‑Л. Переца, Шолом‑Алейхема, Бялика и Авраама Мапу; рукописный дневник Теодора Герцля; рукописи доктора Соломона Эттингера и Менделе Мойхер‑Сфорима; части архивов… Макса Вайнрайха, Залмана Рейзена и Зелига Калмановича».
Работа в доме № 6 по Шавельской улице продолжалась много недель. Некоторые ценнейшие вещи были сложены в ящики или канистры, другие просто закопаны в землю. К сотрудникам музея присоединился Гершон Абрамович, инженер, построивший бункер.
У некоторых членов команды были лопаты, другие работали голыми руками. Партизаны трудились с автоматами на ремне. Они доставали из земли материалы, заключавшие в себе еврейскую, русскую и мировую культуру: актовые книги клойза Виленского Гаона; афиши первых спектаклей на идише, сыгранных актерами труппы Аврома Гольдфадена — отца еврейского театра; письма Горького, бюст Толстого, русские летописи XVII века и… портрет некоего британского сановника, написанный в Бомбее (портрет был родом из смоленского музея) .
Выкапывая картины и скульптуры, Суцкевер с товарищами натолкнулись на статую царя Давида работы русско‑еврейского скульптора XIX века Марка Антокольского. Потом из земли показалась рука, Суцкевер ухватился за нее, думая, что это еще одна статуя. Содрогнулся, поняв, что держит не глину, а плоть. После ликвидации гетто в бункере скрывались несколько евреев, один из них скончался в подземелье. Оправившись от испуга, Суцкевер продолжил вместе с товарищами извлекать статую. В том, что она лежит рядом с человеческим телом, он усмотрел поэтический символизм: «Жертва Гитлера лежит под землей, а могущественный царь Давид, с мечом в руке, стоит ныне над землею. Он освободился, дабы отомстить» .

Новоиспеченный музей располагался в квартире Шмерке и Суцкевера по адресу улица Гедемино, 15. Два поэта решили повесить вывеску на русском и идише у входа в здание еще до того, как учреждение получило официальный статус.
Помимо бункера на Шавельской улице материалы были обнаружены и в ряде других мест. 5 августа Шмерке записал в дневнике: «Несем в музей свитки Торы, которые были раскиданы по всему городу. Я притащил огромное число ценных книг, которые сохранила полька Марила Вольская — она получила их от своего друга Моше Лерера».
Ковнер тем временем разыскивал документы, рассказывавшие историю ФПО, которую он раньше возглавлял. В груде мусора во дворе дома № 6 по улице Страшуна он обнаружил экземпляр последней листовки организации от 1 сентября 1943 года: «Евреи, готовьтесь к вооруженному сопротивлению!» «Я прочитал ее, и глаза воспалились сами собой. Не потому, что я видел свой почерк или потому, что это был мой приказ, отданный моим голосом. И не потому, что я только что вытащил собственную жизнь из пепла, а потому, что меня вновь хлестнула по лицу умолкшая боль тех дней. Никто и никогда не сможет полностью постичь суть этой боли» .

Квартира Шмерке и Суцкевера в доме № 15 по улице Гедемино быстро заполнялась материалами. Навестивший их корреспондент одной из газет так описал эту сцену: в комнате повсюду стопки переплетенных в кожу книг, потемневших от сырости и старости. Вдоль стены составлены рядами свитки Торы. На полу — пачки рукописей, на письменном столе — поцарапанная гипсовая статуя, одна рука отломана. Шмерке и Суцкеверу почти негде было спать.
Ночью, в темноте, в комнате делалось жутковато. Ты будто бы спал на кладбище среди надгробий и разверстых могил .

Как подростки-евреи спасали книги в Каунасском гетто

«Никогда не говори — пришел конец»

