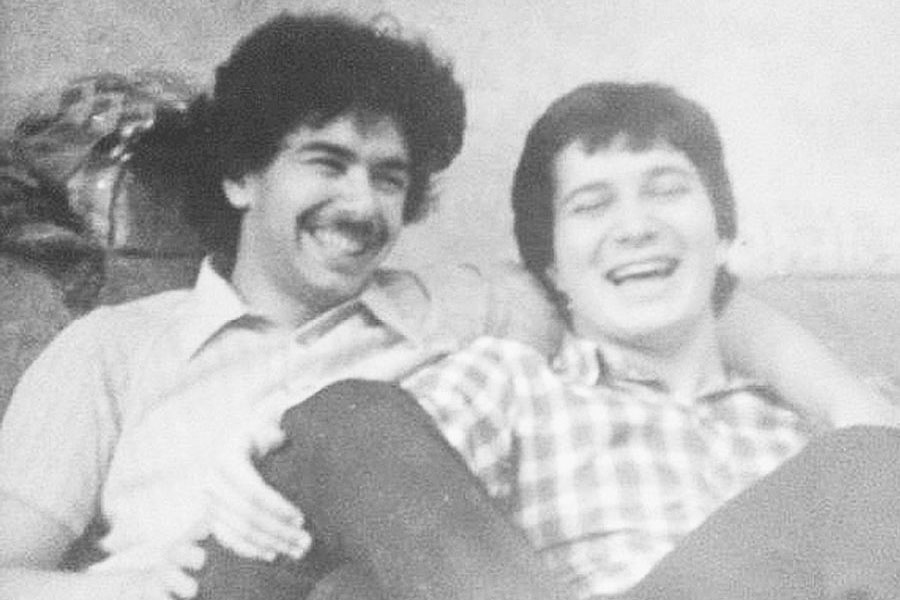В последние годы Константин Осипович редко приезжал в Москву. Расписание концертов определено на много лет вперед, да и на родину не тянуло — близких не осталось, старых друзей растерял, новых не приобрел. Все отдавал ей, музыке. С женой Константин расстался уже через два года после свадьбы — к музыке Катя оказалась глуха, страсть к стройной холодноватой женщине с тонкими, змейками, губами прошла, а встречной тяги к полноватому, не шибко опрятному, молчаливому Косте у эффектной и остроумной Кати никогда не существовало в природе — просто уступила влюбленному юноше с перспективой. Но все это позади. Так что, помимо предусмотренных контрактами выступлений, никаких дел на родине у Константина Осиповича не было. Повинуясь привычке, прогуляться по Варварке, где в несуществующем уже Псковском переулке некогда стоял несуществующий уже дом за номером три, где прошло Костино детство. Да посетить могилу родителей на Востряковском кладбище, постоять у белого гранита с надписями:
Портнов Осип Яковлевич
1915—1976
Портнова Елена Семеновна
1918—1992
А могилу бабушки, Елизаветы Наумовны, найти ему так и не удалось: по несусветным кладбищенским правилам сведения о захоронениях давали исключительно лицам, доказавшим документально родственную связь с покойным, а у Константина Осиповича таких доказательств не оказалось. Но вспоминал он бабушку часто — чаще, чем маму и папу. Ее протяжный крик из‑за дачного забора: «Котинке, ингелэ, иди пить молоко!» — звучал в музыкальных ушах Кости через десятки лет после кончины Елизаветы Наумовны.
Жили Портновы в двух комнатах обширной коммунальной квартиры, бывшей профессорской, владелец которой Семен Михайлович Генкин когда‑то лечил самого Бунина, а потом сгинул вместе с женой и дочкой где‑то в Средней Азии, уступив квадратные метры более достойным представителям трудового народа, к каковым отнесли и семейство известного в артистических кругах брючного мастера Осипа Портнова (остается невыясненным, фамилия ли подвигла Осипа Яковлевича стать портным или, напротив, эту фамилию его местечковые предки получили благодаря своей профессии). Так или иначе, но поселился Портнов с женою, тещей и единственным сыном Костей в профессорской квартире на третьем этаже солидного шестиэтажного дома, сильно обветшавшего, но сохранившего с дореволюционных времен некоторое щегольство в виде полированных широких перил, опирающихся на чугунную литую решетку, и могучих парадных дверей с выбитыми стеклами. Бурая краска на них (дверях, не стеклах) держалась скверно, и ее обычно обновляли дважды в год: к майским праздникам (Дню международной солидарности трудящихся, если кто забыл) и седьмому ноября. Костя рос ребенком пугливым и болезненным, железки, как водится, распухали, аденоиды мешали дышать, гланды то и дело провоцировали ангины, уши болели дуэтом и попеременно, скарлатина, корь и ветрянка сменяли друг друга, так что крик «Айда на горку!» Юрки Жебрака — единственного приятеля, с которым он успел сойтись на почве оловянных солдатиков и Жюля Верна, часто оставался без желаемого ответа. Да он и сам не рвался гулять — зимой с этой самой горки надо было спускаться то на снегурках, то плюхнувшись задницей на фанерку, что Косте не нравилось, а весной ребята делали запруды и ковырялись в холодной воде, пуская кораблики, что тоже не вызывало энтузиазма. Всесезонные пристеночек и «ножички» не давались, салочки, колдунчики, сыщик‑ищи‑вора, классики, штандер оставляли равнодушным — унылый был мальчонка, что и говорить. Косте больше нравилось сидеть в комнате, уставившись в одну точку, и прислушиваться к черному круглому репродуктору. Проявилась эта склонность рано, лет с трех, когда семья только‑только вернулась из эвакуации и черная тарелка стала привычным предметом семейного обихода. Ее не выключали никогда, и стоило потоку слов, изрыгаемых ею непрерывно, смениться потоком же музыкальных звуков, Костя прекращал все прочие занятия, переставал капризничать, замирал, чуть наклонял голову — и окружающий мир исчезал, вытесняемый миром другим, хрупким и загадочным. Первой обратила внимание на эту особенность поведения ингелэ бабушка Елизавета Наумовна. Мало‑помалу она приметила, что разную музыку Костя слушает по‑разному. Скажем, «Взвейтесь кострами, синие ночи» он слушал охотно, но голову держал прямо и даже крутил ею по сторонам, а начнется Второй фортепианный концерт Рахманинова — головка набекрень, рот приоткрыт, и нет его, унесся куда‑то. А как‑то раз учительница пения (были такие уроки в начальной школе) Римма Львовна посетила семейство Портновых, застала дома Елизавету Наумовну и поделилась с ней уже своими наблюдениями. «Вы знаете, — сказала она, отхлебывая чай из парадной гарднеровской чашки, — чтоб я так жила: я вожусь с этими босяками восемнадцать лет, но этого мальчика ангел поцеловал в темечко…»
И уже на следующий день Елизавета Наумовна взяла своего сына за лацкан и сказала ему, Ося, делай что хочешь, но мой внук должен учиться музыке, и не просто учиться, а у самого‑самого лучшего учителя. И что бы вы думали? Осип Яковлевич пораскинул мозгами и позвонил своему старому клиенту, известному артисту Володину, которому неоднократно шил брюки, да‑да он шил брюки самому Владимиру Сергеевичу Володину (вообще‑то Иванову, и зачем только Иванову понадобилось брать себе псевдоним Володин, если он уже Иванов — задумывался время от времени Осип Яковлевич). Так вот, Володин‑Иванов связался не с кем‑нибудь там, а с самим Давидом Ойстрахом, а уже Давид Ойстрах… Опустим подробности, но вскоре Костя оказался в Гнесинке.
А тем временем… Тем временем давно уже пора сообщить, что двумя этажами ниже, то есть на первом этаже того же дома, в том же подъезде, жил уже не портной Осип Яковлевич, а совсем наоборот, сапожник Володя, точнее — Володя‑сапожник, именно так он был известен соседям и клиентам, через дефис: Володя‑сапожник. Надо признать, что у Володи‑сапожника не было таких знатных клиентов, как у Осипа‑брючника, но работу свою он делал исправно, весь дом обслуживал, а то и добрую порцию насельников Псковского переулка. В свободное от дратвы и колодки время Володя‑сапожник поколачивал свою безответную жену, худосочную тетку Татьяну, как ее звали окрестные дети, а двоих сыновей‑погодков, Коляна и Толяна, бил смертным боем, когда бывал трезв, что, по счастью, случалось нечасто, а в подпитии мягчел, Татьяну норовил приласкать, а детям давал по двадцать копеек на мороженое. Впрочем, мороженое привлекало Толяна и Коляна недолго, скоро его заменило пиво.

Так мальчики росли: неподалеку друг от друга — и как бы на разных планетах. Костя пропадал на Собачьей площадке в Гнесинке, потом терзал скрипку дома, а на лето уезжал на дачу в Малаховке, где терзал ту же скрипку на свежем воздухе. А Колян с Толяном, едва дотянув до конца начальной школы, где просиживали по два года в классе, были определены в ремеслуху, откуда регулярно сбегали. Их ловили, и вскоре старшего, Коляна, отправили в колонию, и больше на Псковском он не появлялся, а Толян стал грозой местной мелкоты из интеллигентных семей. И хотя Костя к интеллигенции вряд ли принадлежал (папино образование ограничилось суражским хедером, мама окончила семилетнюю школу рабочей молодежи, а Елизавета Наумовна так толком и не научилась читать по‑русски), но скрипка и отчетливо семитская внешность — сами понимаете. И вот Толян из всех детей округи выбрал безответного Костю, Котинке, ингелэ, своей главной жертвой. Да и как не выбрать? Живущий по‑соседству — искать не надо, пугливый, неуклюжий, с просительно‑виноватым взглядом и носом‑клювиком, Костя буквально просил: ну же, давай, поиздевайся надо мной, тебе за это ничегошеньки не будет. И Толян не упустил такую шикарную возможность.
Меню у него было богатое. От простенького «жид по веревочке бежит» до строгого приказа: «Пой песню на еврейском языке с русским переводом». Жизнь Кости мало‑помалу превращалась в ад. Вырвать портфельчик из рук и вывалить в грязь или снег (по сезону) тетрадки и прочее барахло — это раз. Прижать к стенке и, достав из ширинки длинный тонкий отросток, обдать Костину штанину вонючей желтой струей — это два. Сорвать шапку и забросить ее в кузов мимопроезжего грузовика — это три. Было и четыре, и пять, и шесть… Но при этом Костя никогда ни слова не говорил о своих страданиях ни родителям, ни бабушке. Молчал, копил злобу и строил планы мести. Ну очччень необычные. Ни за что не догадаетесь, какие. Он вовсе не хотел расправиться с Толяном каким‑либо особенно изуверским способом, да и вообще причинить ему какую ни то неприятность. Напротив — он мечтал его облагодетельствовать! Вот Толян тонет в болоте, и Костя, рискуя жизнью, бросается на помощь, стоя на самом краю трясины протягивает палку (веревку, ремень, что там еще…), вытаскивает беднягу и на растерянные слова благодарности пожимает плечами и гордо уходит. Вот какие‑то бандиты из соседнего — Максимовского — переулка загнали Толяна в угол (он даже знал этот закоулок во дворе дома один) и начинают его беспощадно избивать, а Костя появляется в самый последний момент, достает револьвер (тут надо домечтать, где он его возьмет) и ледяным голосом: а ну, прочь, мерзавцы! Бандюки разбегаются, Толян блеет что‑то, а Костя — да‑да, пожимает плечами и гордо уходит. Ну и так далее… Где‑то я такое слышал или читал. Ах да, в письме княжны Ольги Николаевны, писанном за пару месяцев до бойни в Ипатьевском доме: мол, папенька всех врагов своих прощает, мстить им не велит, ибо не зло побеждает зло, а только любовь. Ну откуда, казалось бы, в еврейском мальчонке такое христианское настроение ума? Не иначе как от истоков, от тех еще евреев, числом двенадцать, которые внимали Иисусу.
Ну да ладно. Пытка продолжалась не один год. Толян и Костя потихоньку взрослели, их родители так же потихоньку старели. Когда ударило великое хрущевское переселение коммуналок в худо‑бедно нелепые, но вполне таки отдельные квартиры, жизнь развела семьи Толяна и Кости, и последний — уже студент консерватории — мало‑помалу стал забывать мучителя. А потом и вовсе забыл. Что касается Толяна, то таких, как Костя, у него была дюжина, и он их вообще не сильно различал — мельтешат тут всякие недо… (мерки, умки, унтерменши в общем, хотя этого мудреного слова он, конечно, не знал).
Так вот, на этот раз Константин Осипович, изрядно подуставший от высокодуховного служения искусству, к радости своей, получил чуть ли не целую неделю блаженного отдыха, сладостного far niente. Он мог наконец неторопливо гулять по ставшей чужой, но таившей милые старые знаки Москве, сидеть в кафешках за рюмкой‑чашкой чего‑нибудь, просто размышлять, вспоминать, вспоминать, вспоминать. Он только что вернулся из Петербурга, причем намеренно ехал на поезде, и не на каком‑то новомодном шибко быстром «Сапсане», и даже не на «Стреле» и не на двухэтажном фирменном, а на вполне заурядном Петербург—Белгород: хотел вспомнить советские еще поезда, каких повидал немало в гастрольных поездках в те еще времена, когда, лежа на верхней полке (выбирал ее, чтобы обрести некую самостоятельность, независимость от соседей, расположившихся внизу с вареными курами, яйцами и помидорами), выборматывал: «Я безрадостно вылакал эмпээсовский чай, паровозная лирика, успокой, укачай…» В Питере, вернее в Сестрорецке, он посетил могилу старого друга, скончавшегося за время его очередного концертного тура, затянувшегося на несколько лет. Сестрорецкое кладбище его поразило: сосновый лес необыкновенного уюта, светлая‑светлая атмосфера, чистый песок — даже в дождь свежие могилы выглядят опрятно. Вот здесь и лягу, решил он. «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать…» Тут уж Моисей надо мной не властен. Моисей Исидорович Поляков, его директор (в артистическом смысле — организатор выступлений Константина, забравший власть над всем его бытом, а после развода поработивший Костю окончательно), хоть и был тремя годами моложе, считал себя ответственным за музыкальную мировую звезду, а потому вел себя как тиран и влезал во все дела. Уже уходя с кладбища, Костя заглянул в часовню — поставить свечку в память друга (ритуал обязательный и для отъявленного безбожника с пионерских еще времен), а покинув часовню, сразу же за ее оградой увидел скромный белый памятник: Сергей Иванович Мосин, генерал‑майор, — и годы жизни. Мосин? Неужто автор винтовки Мосина, которой допекал его учитель военного дела Витамин (Вениамин по паспорту), раздававший шелобаны нерадивым восьмиклассникам Гнесинки? Как же, как же, винтовка Мосина образца тысяча восемьсот девяносто первого года, доработанная в тысяча девятьсот тридцатом и бывшая на вооружении Красной армии чуть ли не до конца войны. Она же трехлинейка — в его детском воображении это слово должно было означать что‑то удлиненное, вытянутое в линию, и о трех стволах. Узнав, что три линии имеют отношение только к калибру, то есть диаметру пули (одна линия равна десятой доле дюйма), он даже расстроился.
Ну да ладно. Кладбища в этой поездке по России, похоже, не переставали удивлять Константина Осиповича. В Москве он, по обыкновению, отправился на могилу папы и мамы в Востряково, постоял у камушка, прибрал там все, протер надпись и керамическую фотографию, сухие листья вымел, цветы — две хризантемы — положил. Все это с чувством уже не острым. Это была даже не печаль — легкая задумчивость. В этой задумчивости Костя пошел бродить по безразмерному кладбищу и незаметно оказался на русской его половине.

Середина недели, хмурый — срывается мелкий дождик — день, а потому народу не густо. Уже ближе к центральной аллее, ведущей к выходу, он краем глаза ухватил кособокую фигуру, пристроившуюся на скамеечке за свежевыкрашенной оградой. Линялая репсовая куртка (лет тридцать назад такая была и у него — модная в те времена штучка), поросший серой щетиной острый профиль, рядом — початая бутылка водки. Костя прошел мимо, собрался раскрыть зонт, передумал — и вдруг остановился. Этот профиль. Да быть не может. Тот и подростком был могуч, с литыми плечами и татуированными кулачищами. И все же… Костя повернул назад, поравнялся с оградой, вгляделся. Он? Не он? В этот момент грязные пальцы старика сомкнулись на бутылке, и Костя прочел: ТОЛЯ — по букве на пальце.
— Толян? — произнес он едва слышно.
Профиль сменился фасом, ошибки не было.
Старик отставил бутылку и перевел тусклый взгляд на Константина Осиповича. Переглядка тянулась и тянулась, но Костя не ощущал какого‑либо неудобства. Он смотрел на лицо старика и, отфильтровывая морщины, седину бровей и грязно‑серую щетину, видел своего гонителя таким, каким тот был полвека назад, — но одно он так и не смог отфильтровать: тусклый, унылый, жалкий взгляд. Наконец в нем проявился намек на узнавание.
— Ты, ты…
— Ну да, я.
— Забыл, как звать‑то…
— Костей. Кто у тебя здесь? Жена?
— Не‑а… Мать с отцом. А ты к кому?
— Вот и я к своим, отцу и матери. — Костя неопределенно махнул рукой в сторону еврейского участка.
— Может, сядешь?
И он сел.
— Выпьешь? — Толян плеснул водки в складной стаканчик.
Константин Осипович, всегда предпочитавший «папского замка вино», охотно выпил вслед за Толяном. Да нет уж, за Анатолием Владимировичем. Они посидели, помянули родителей, повспоминали свой переулок, горку, дом — а помнишь?.. Соседей — Юрку Жебрака помнишь? Помер он… Коляна моего? Помер… И как по Варварке на первое мая шли после парада войска. И как ходили смотреть ледоход на Москве‑реке через проломные ворота… И как стояли в очереди за крупитчатой мукой перед седьмым ноября. И… и… и… А о мелких и крупных гнусностях и речи не возникло — как‑то не приходилось к слову. Допили бутылку, вместе вышли за ворота и пешком побрели к «Юго‑Западной». Но не дошли, по дороге завернули в приличного вида забегаловку, взяли еще по двести и пельменей.
Не знаю, как для Толяна, а для Кости это был лучший день за многие годы.

Йоркширская сторожевая
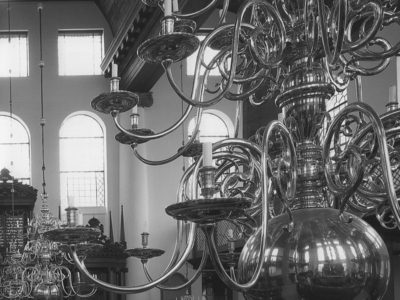
Судный день в Амстердаме