Материал любезно предоставлен Tablet
Квартира у нас возле самой стены, так что нам все слышно, и все знают, что там творится. В людей стреляют на улицах. Сжигают заживо вместе с домами. По ночам плач, крики. Разве уснешь, когда такое слышишь? Разве можно все это вынести?
Зофья Налковская (1947 год)
26 января польский парламент обсудил закон, по которому любое упоминание о сотрудничестве Польши с немецкими оккупантами во время Второй мировой войны объявляется клеветой и влечет за собой уголовное преследование. Ни поляки как народ, ни Польша как государство, сказано в законе, не несут ответственности за преступления, совершенные на польской земле Третьим рейхом. Особенно возмутительным считается выражение «польские лагеря смерти», которое предполагает, что поляки якобы устроили эти лагеря или каким‑то образом поддерживали их.
Три дня спустя Польский центр изучения Холокоста выпустил заявление, в котором эта поправка к акту Института национальной памяти названа беспрецедентным вмешательством политики и идеологии в область исторических исследований. Свою позицию высказали также правительство Израиля, «Яд ва‑Шем», Мемориальный музей Холокоста в США и другие заинтересованные стороны.
На самом деле суд уже состоялся и вердикт уже был вынесен. Три крупных послевоенных писателя, каждый из которых по‑своему был свидетелем Холокоста, оставили польскому народу и тем, кто сочувствует ему, выдающееся литературное наследие. Они представили открытый взгляд на проблему польского коллаборационизма, назвав точное место и время, когда соседей пытали на глазах у соседей, когда одна группа жертв набрасывалась на другую, когда любой нравственный поступок казался изначально обреченным на неудачу перед лицом близкого зла.

Первым предателем в иудео‑христианской традиции был Иуда Искариот — апостол, который предал Иисуса в руки Синедриона за тридцать сребреников и навеки стал архетипом изменника. Этот сюжет так часто обыгрывается в западной литературе и культуре, что пришло время дать ему имя и проанализировать его структуру. Я назову его сюжетом об Иуде и опишу его структуру в виде треугольника. Один его угол занимает оккупант — упорный, бесчестный и жестокий. Успех его действий зависит от верности предателя, который, в свою очередь, нападает на жертву. Жертва и предатель хорошо знают друг друга. Если бы не оккупация, они бы даже любили друг друга. В этом, я полагаю, и есть истинный смысл поцелуя Иуды.
В Польше до сих пор господствует римско‑католическая церковь, которая поддерживает архетипы коллаборационизма в ритуале и языке. В самом начале весны в некоторых регионах южной Польши мальчишки мучают куклу по имени Иуда. В конце концов эту куклу сбрасывают с колокольни, сжигают или разрывают на куски. Менее нагружено ассоциациями выражение «Иудин глазок», которое, по сведениям Оксфордского словаря, проникло в английский язык в середине XIX века и означает «дверной глазок», хотя в Евангелии нигде не сказано, что Иуда подсматривал в глазок, чтобы шпионить за Учителем. Такое выражение есть и в польском языке, и в Польше дверной глазок называли «иудиным» вплоть до ее вступления в Европейский Союз.
Больше всего защитников польской чести пугает, наверное, то, что коллаборационизм всегда начинается дома. В каждой войне за независимость есть свой Бенедикт Арнольд . Известны истории измены Квислинга, маршала Петена и генерала Андрея Власова, которые на геополитическом уровне представляли серьезную угрозу норвежской, французской и советской идентичности, единству и верности, и понадобились изрядные усилия на правовом и внеправовом уровне, чтобы вернуть все в норму. В народном сознании больше всего памятен образ француженок, которых подозревали в сексуальных отношениях с немцами или проституции и которые поплатились за это после войны наголо обритыми головами. Эту форму «гражданской казни» нельзя путать с 6 тыс. внесудебных расправ с коллаборационистами, состоявшихся до освобождения Франции, и еще 4 тыс. после. За ними последовали так называемые чистки, когда комиссии, назначенные Шарлем де Голлем, вынесли приговор примерно 120 тыс. человек — хотя число казненных в конечном счете было существенно меньше. Не будем вдаваться в рассказы о том, как расправлялся с подозреваемыми в коллаборационизме Сталин.

* * *
Когда немцы вошли в Польшу, они подчинили себе многонациональное население, веками связанное отношениями любви–ненависти. Большинство евреев одевались иначе, говорили иначе и молились иначе — не так, как их соседи из числа польских христиан, но даже те евреи, которые научились говорить, читать и писать по‑польски, видели, что их любовь остается безответной. Зависть и ненависть поляков по отношению к евреям оказалась для немецких оккупантов, привыкших разделять и властвовать, натравляя одну этническую группу на другую, чрезвычайно плодотворной почвой. Поэтому во время немецкой оккупации один покоренный народ мог с успехом для себя предавать другой, сохраняя при этом подобие внутренней солидарности.
За шесть долгих лет оккупации они жили, страдали и погибали рядом — поляки и евреи, покоренные и осужденные, и между ними была всего одна стена — забор из колючей проволоки или барак. Каждое из более чем тысячи гетто, учрежденных немцами в оккупированной Польше, каждая из фабрик смерти, выстроенных на польской земле: Аушвиц‑Биркенау, Белжец, Хелмно, Гросс‑Розен, Майданек, Собибор, Штуттгоф и Треблинка, каждый блок в каждом концентрационном лагере смерти — все они были местом близкого зла. Сюжет об Иуде был разыгран здесь в бесчисленном количестве вариаций.
Знаменитая польская писательница Зофья Налковская впервые непосредственно столкнулась с судьбой евреев 25 апреля 1943 года, когда приехала навестить могилы родителей на Повонзковском кладбище. С утопающего в зелени пригорка она увидела дым и пламя, поднимающиеся над стеной Варшавского гетто, ребенка, стоящего на подоконнике, и услышала звук падающих на землю тел. Ее дневниковая запись этого дня удивительно лаконична, Зофья описывает только дым, «узкие нити дыма», а дальше — только боль воспоминания. «И слышать это, — внезапно и безучастно заканчивает она. — И думать об этом. И жить». Из этой невыносимой бессвязности реальности, одновременно столь разрозненной и столь непосредственной, из ощущения невозможности адекватно описать событие впоследствии родится шедевр литературного свидетельства Налковской — сборник «Медальоны» (1947).

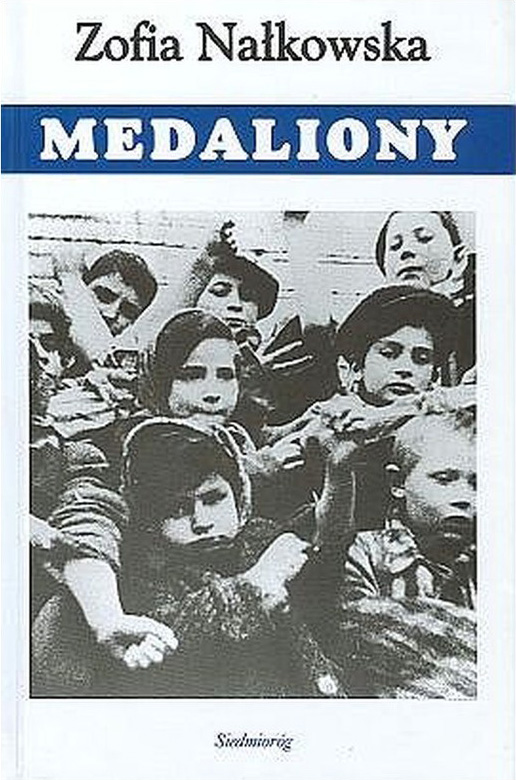
Назначенная в феврале 1945 года членом главной комиссии по исследованию гитлеровских преступлений на территории Польши (предшественницы современного Института национальной памяти), Налковская была первым гражданским лицом, получившим возможность систематически посещать и изучать лагерь Аушвиц‑Биркенау. Она проводила бесчисленные беседы в пустых квартирах, гостиничных номерах, на кладбище. Одна свидетельница пришла в лагерной форме: сине‑серой полосатой робе и такой же шапочке. Все эти люди так долго существовали в обстановке постоянного кошмара, и военный опыт так ожесточил их, что слова их были лишены всякого чувства. Некоторые не могли отличить добро от зла, жестокость от жалости, жертву от преступника. Многие были инвалидами, частично слепыми. Они часто замолкали, пугались, увиливали, их прерывали рабочие, пришедшие починить раковину.
Речь героев Налковской сознательно противопоставлена историям, которые они рассказывают. «Дорога на кладбище идет через весь город мимо той стены», — начинается рассказ, и любой послевоенный польский читатель тут же понимает, что «та стена» может означать только стену варшавского гетто. Неважно, где происходит действие, но с самого начала автор подчеркивает, как близок рассказчик к месту действия. При такой близости неизбежно видно запустение:
Все дома по ту сторону стены — прежде набитые битком, — из окон и с балконов везде выглядывали люди, — теперь опустели. Проходя мимо одного из домов, где‑то на третьем этаже я каждый раз вижу открытое настежь окно с провалившимся подоконником, с почерневшей оборванной занавеской и засохшим цветком, а в глубине комнаты, у стены, — буфет с раскрытыми дверцами.
Это настоящий натюрморт, изображение заброшенности. Некогда густонаселенное место заключения находится так близко к улице, что до сих пор видно провалившийся подоконник, иссохшую, уродливую и дешевую обстановку за почерневшими занавесками на навек открытых окнах. Город за стеной давно опустел, «время идет», но война продолжается, и видны черные клубы дыма, поднимающиеся «над нежной молоденькой зеленью кладбищенских деревьев», «их пронизывает полоса пламени, трепещущая на ветру», слышно, как где‑то неподалеку «тихонько переговариваются самолеты». И «отовсюду приходят вести о смерти», — сообщает рассказчица, называя каждую жертву первой буквой имени. Ее обыкновенный визит на кладбище с его ухоженными могилами — это невероятный опыт, почти невыносимое ощущение «смерти обыкновенной, единичной», которая «по сравнению с этой всеобщей кажется чем‑то неуместным». Странность происходящего такова, что рассказчице кажется, будто «ничего от прежней жизни не осталось, будто ее и вовсе не было»; сама по себе жизнь представляется невероятной. «Действительность еще можно кое‑как вынести, — пишет Налковская, слово в слово повторяя то, что она записывала в своем военном дневнике, — если она воспринимается нами не полностью. Если события отделены от нас временем». Разум наблюдателя пытается собрать воедино разрозненные картины, звуки и каждодневные утраты.
Сам по себе рассказ представляет собой попытку деконструировать настоящее, разъять его на какие‑то понятные детали; в определенной степени писательница сама выступает в роли смотрительницы кладбища. Хотя расшифровать эпитафии на бронзовых памятниках довольно легко, их цветочный, трансцендентный язык утратил всякий смысл. Там, с другой стороны стены, царят тишина и пустота, а здесь, на тщательно ухоженном участке, где лежат христианские мертвецы, природа сияет яркими красками, и «могилы — словно маленькие грядки синих и желтых анютиных глазок», где «цветут и благоухают ландыши, вот‑вот зацветет сирень». Можно ли убежать из этого странного пейзажа, пугающего близостью зла?
Нельзя, потому что даже здесь мертвым нет покоя. Когда наконец мы знакомимся со смотрительницей кладбища, держащей «в руках эмблемы ее должности: метлу и лейку», она рассказывает причудливую историю о роженице, чье тело подвергли эксгумации, о том, как она покончила с собой, выбросившись из окна родильной палаты, о ее убитом горем муже, который тоже наложил на себя руки. Однажды, когда на кладбище стали падать бомбы, «на дорожках валялись обломки памятников и разбитые медальоны. Разверзлась земля, из раскрытых гробов выглядывали покойники». Но не трупы христиан тревожат покой женщины с кладбища. «Ничего им не сделается, — безразлично говорит она. — Второй раз не помрут». Есть другая причина, по которой она так подавлена сегодня и по которой не может больше жить в этом месте:
Квартира у нас возле самой стены, так что нам все слышно, и все знают, что там творится. В людей стреляют на улицах. Сжигают заживо вместе с домами. По ночам плач, крики. Разве уснешь, когда такое слышишь? Разве можно все это вынести?
Близость означает, что она вынуждена слышать, а не только видеть. Женщина с кладбища так же верит антисемитской пропаганде, которую слышит по радио, как не осознает разницы между частной смертью молодой матери, выбросившейся из больничного окна, и жуткого зрелища еврейских матерей и отцов, бросающихся с балконов своих квартир в гетто — одни прыгают, держа детей на руках, другие выталкивают детей первыми. «Даже когда не видно, мы все равно все слышим. Все время раздается — плюх, плюх, будто что‑то мягкое плюхнулось… Это падают люди, лучше выброситься в окно, чем сгореть заживо». Ее сводит с ума то, что этих евреев, таких близких и одновременно таких далеких, ничто не спасет. Даже сейчас, когда некому уже бросаться с горящих балконов, она слышит их крики, и стоны, и звук падающих тел, ударяющихся о землю. Поэтому она хочет убежать.
Рассказ о близости зла — это рассказ о предательстве самого себя. Если рассказчица пытается удержаться за реальность, собирая разбитые медальоны и свидетельства очевидцев, то женщину с кладбища сводят с ума ежедневные картины и звуки людей, бросающихся навстречу смерти.

* * *
Нет, раскол между разрешенной памятью и политической корректностью с одной стороны и исторической правдой и свидетельствами о Холокосте с другой начался не в январе этого года. Он продолжается в Польше с тех пор, как в стране прямо или косвенно установился советский режим, который объявил о том, что наступило бесклассовое общество и теперь запрещено выделять те или иные жертвы фашизма, то есть говорить об истреблении евреев. На литературном фронте борьба велась против той формы рассказа о Холокосте, которую новая власть называла натурализмом. Натурализм был естественным врагом социалистического реализма, требовавшего, чтобы в конце герой обретал правильное классовое сознание; триумф коммунизма требовал светлого завтра. «Близорукий натурализм», по выражению одного польско‑идишского писателя, выступавшего на писательской конференции в 1949 году, питательная почва для фатализма. Следующей жертвой стало полуавтономное существование еврейской культуры. Процесс, начатый погромом в Кельце 4 июля 1946 года, который заставил более 100 тыс. польских евреев, переживших Холокост, покинуть страну, завершился насильственным изгнанием 47 тыс. еврейских граждан из Польской Народной Республики в марте 1968‑го. Их назвали сионистской пятой колонной. (А что такое вообще пятая колонна, если не светская реинкарнация Иуды?) А потом литература и кино сделали так, что треугольник, состоящий из оккупанта, предателя и (еврейской) жертвы, остался живой, болезненной и неотъемлемой частью польской коллективной памяти. Но кто еще помнил и мог еще дать показания?
Михал Гловинский, известный исследователь польской литературы, впервые рассказал о своем еврейском происхождении в потрясающих мемуарах под названием «Черные сезоны» (1999). Представьте себе, чтобы вдруг оказалось, будто Нортроп Фрай пережил ребенком чудесное спасение. Мемуары написаны с двух точек зрения: 58‑летнего рассказчика, который постоянно проверяет разрозненные воспоминания, и восьмилетнего героя, ежедневно, а иногда ежечасно живущего в смертельном страхе. Один из самых напряженных эпизодов, датированный «январем 1943 года от Рождества Христова» и носящий говорящее название «Черный час», повествует о столкновении со шмальцовником, которого взрослый рассказчик описывает как «своего рода эмпирический архетип гиены эпохи оккупации». Этот человек зарабатывает себе на жизнь, шантажируя «приговоренных к уничтожению». Другими словами, шмальцовник — знаток своих жертв. Чтобы добиться успеха, он должен уметь разглядеть добычу: может быть, волосы выкрашены слишком светло, губная помада лежит слишком густо или глаза ее выдают. В мирной жизни такие состоятельные евреи были бы недосягаемы.

Шмальцовник появляется в книге в двух разных обликах — мифическом и реальном. Взрослый человек, оглядываясь назад, много лет сомневался, рассказывать ли об этом вообще, потому что рассказ прозвучал бы как старая сказка о противоборстве человека со смертью. «Я играл в шахматы, и не с самой смертью, а с молодым человеком, который решил приговорить меня к смерти». Для восьмилетнего ребенка, прячущегося с матерью и тетей Теодорой в арийской части Варшавы, это был «молодой человек, элегантно одетый по моде эпохи оккупации», он как будто вышел с киностудии, у него даже были идеально подстриженные усики польского гангстера. В детской памяти навсегда запечатлелось его пальто, «тяжелое, серое пальто в елочку».
«Образованный еврейский ребенок» прекрасно знает катехизис и католические молитвы, не хуже помнит он и значение слова шмальцовник, но разве возможно понять, кто перед ним — просто уголовник или идеологический шмальцовник, «человек, который считает выявление и преследование евреев, прячущихся на арийской стороне, своей миссией». В последнем случае все трое обречены, даже если заплатить отступные. Пока что ребенок играет с шантажистом в шахматы, чтобы скоротать время. Если он выиграет партию, значит ли это, что он умрет?
В литературе сюжет о коллаборационизме развивается не так, как в жизни. В литературе одно явление часто выступает метафорой другого, как в случае с шахматами юного Михала, единственной личной вещью, которую он вынес из гетто. Это своего рода lieu‑de‑mémoire, «место памяти», как сказал бы взрослый рассказчик, осколок довоенной цивилизации, когда еще можно было играть по правилам и выучить самые знаменитые партии. Но в условиях войны ребенок обречен либо играть сам с собой в шахматы часами напролет, либо вести игру с шантажистом, поставив на кон собственную жизнь, потому что «в какой‑то момент случилось непредвиденное: соскучившись, шмальцовник предложил мне сыграть с ним в шахматы».
Столь же необъяснимо, что маленькие деревянные фигурки, которые мальчик хранил в потрепанной картонной коробке (до сих пор у него перед глазами ее тусклый синий цвет), — этот талисман исчез вскоре после того, как он покинул «этот злосчастный чердак». Литература, по крайней мере специалист в области литературы, способна вернуть ощущение «времени, когда могли произойти самые невероятные дьявольские вещи», собрать и расположить в определенном порядке двадцать разрозненных воспоминаний о еврейском детстве, которые подтверждают дерзкое предположение: «Даже самые жестокие эпизоды Библии не идут ни в какое сравнение с историями о Холокосте». Сколько бы ни было вариаций сюжета об Иуде, рассказ Гловинского самый страшный, потому что он написан с точки зрения восьмилетней жертвы.
Должно ли теперь слово на «ш», шмальцовник, исчезнуть из публичного дискурса, превратиться в оскорбление, за которое наказывают по закону? Это может оказаться сложнее, чем представляется польским парламентариями, потому что слово живет собственной жизнью. Не знаю, до какой степени польские читатели склонны видеть политическую аллегорию в «Гарри Поттере», но я знаю, что их «настоящее», историческое время начинается, годом раньше, годом позже… в 1943‑м. Интересно, думал ли о Холокосте переводчик «Гарри Поттера и Даров Смерти», когда назвал «егерей», ведущих охоту на волшебников, рожденных от маглов, и волшебников, которые дружат с маглами — тех шантажистов, что ловят людей, осмелившихся произнести вслух имя Темного лорда Волан‑де‑Морта, шмальцовниками. Интересно, будут ли в нынешнем политическом климате польские родители объяснять детям, что тогда, как и сейчас, шмальцовники преследовали и выдавали носителей света и людей веры.
* * *
У польских парламентариев есть все основания так остро реагировать на термин «польские лагеря смерти», потому что главными точками контакта между покоренными и осужденными были фабрики смерти, такие как Аушвиц. В числе первых этот контакт зафиксировали трое поляков, бывших заключенных лагеря Аушвиц‑Биркенау, чей рассказ был опубликован в Мюнхене, административном центре американской зоны в 1946 году. Чтобы помочь послевоенному читателю понять, что происходило в Аушвице‑Биркенау, анонимный издатель, которым был 24‑летний поэт Тадеуш Боровский, включил в книгу глоссарий «Термины Аушвица». Некоторые из них — аппель , капо, команда, кранкенбау , лагерь, музельман , зондеркоманда, циклон — немецкого происхождения, другие — идиолекты, слова, в любом другом контексте вполне невинные: блок, Канада, печь, старый номер, организовать, селекция, полосатый, цыганский (то есть лагерь для цыган). Расположенный «у слияния Солы и Вислы», Аушвиц был сначала создан как лагерь уничтожения только для поляков, затем для советских военнопленных, но цель антологии Боровского — составить летопись «фантастической карьеры Аушвица», который из никому не известного «внутреннего» польского лагеря превратился в «огромный международный лагерь уничтожения для многих миллионов европейских евреев». Общеевропейский и многонациональный характер требовал собственного словаря и пространственных координат. Самый старый из них, с номером 6643, человек с четырехлетним лагерным опытом, начинает составление «бедекера за колючей проволокой».

Прежде чем маршал Петен придал слову «коллаборационизм» негативное звучание, оно означало всего лишь совместную деятельность. В контексте Аушвица это означало красть, грабить, прятать или, на жаргоне, «организовывать» — это был единственный путь к выживанию. В Аушвице тем, у кого номера были больше, приходилось учиться у тех, кто носил номера меньше, — только они могли научить тебя выжить. Самыми опытными в деле массового истребления были тысяча членов зондеркоманды — люди крепкого телосложения, которые наблюдали за уничтожением собственных соплеменников, говорили им, где раздеваться и где оставлять вещи, брили им головы и вели их якобы в душ; их работой было вынимать мертвецов из газовых камер, открывать им рты, чтобы вытащить золотые зубы, и бросать тела в печи. В Аушвице треугольник «оккупант — предатель — жертва» не делился на немцев, поляков и евреев, потому что зондеркоманда почти целиком состояла из евреев. Боровский пишет, что польские сокамерники считали их отбросами земли Аушвица, но, поскольку многие из них говорили по‑польски, от них можно было получить полезную информацию.
Главный герой и рассказчик в произведениях Боровского, и в сборнике «У нас в Аушвице…», и в книгах, опубликованных им после репатриации в Польшу, — младший капо, форарбайтер Тадек, лагерный номер 119198. У Тадека большой номер, он сравнительно недавно оказался в лагере, он поляк‑христианин, поэтому газовая камера ему не угрожает — его положение привилегированное. Рядом с мужским лагерем находится женский, куда интернировали его возлюбленную Марию; он может даже видеться с ней. Рядом с Аушвицем и подчиняющимися ему лагерями находится тыл — источник писем и редких продуктовых посылок. Но так же близки к его рабочей бригаде «прибывающие» — бесконечные транспорты с последними оставшимися евреями Европы. Ни секунды Тадек не сомневается в том, какая судьба ждет евреев.
Все в лагере говорят о «смерти Шиллингера» — это самый известный акт спонтанного сопротивления в анналах Аушвица; таковым он остается и по сей день. 23 октября 1943 года, по самым достоверным сведениям, танцовщица‑еврейка, уже раздетая у входа в газовую камеру, выхватила револьвер у Йозефа Шиллингера, одного из самых одиозных садистов из числа офицеров СС, и смертельно ранила его. Тадек описывает, что «Шиллингер был небольшого роста, коренаст» и имел безошибочно тевтонский вид: «Лицо — круглое и одутловатое, волосы — светлые как лен, гладко прилизанные. Голубые его глаза всегда были немного прищурены, губы сжаты, щеки чуть перекошены гримасой раздражения». Шиллингер известен неподкупностью, он целиком предан делу грабежа и массовых убийств, по лагерю ходят многочисленные истории о совершенных им убийствах. Сам рассказ начинается с того, что форарбайтер зондеркоманды отдыхает «в ожидании доставки сгущенного молока со склада цыганского лагеря» и собирается рассказать о последних новостях. Он усаживается на подушке и закуривает. Мы понимаем, что Тадек и форарбайтер говорят на одном языке; они оба кормятся от мертвецов.

В рассказе Боровского женщина, убившая Шиллингера, прибыла в транспорте евреев не из Варшавы (или, по некоторым сообщениям, из Варшавы через Берген‑Бельзен), а из Бендзина. Это важная деталь, поскольку оказывается, что некоторые члены зондеркоманды тоже оттуда и они боятся узнать близких в новоприбывших. Тадека удивляет такое особенное отношение именно к этому транспорту, потому что в польском выговоре форарбайтера ничто не выдает провинциальное происхождение. «Я закончил педагогический в Варшаве, — объясняет форарбайтер, — а потом преподавал в бендзинской гимназии». Он мог бы уехать за границу, но остался из‑за семьи. Итак, мы узнаем, что форарбайтер — учитель, он еврей и польский интеллигент, и вдобавок у него есть семья. Что ж, Аушвиц весь как одна большая семья, где как раз и место совместному труду.
Рассказывая о семье, форарбайтер не должен демонстрировать сочувствие бендзинцам. Он, как и Шиллингер, и эсэсовцы, выполняет свою работу. И правда, после того как после выстрела в Шиллингера эсэсовцы разбежались, именно зондеркоманде приходится палками загонять евреев в газовую камеру, завинчивать двери и кричать эсэсовцам, чтобы те пустили «Циклон Б». «Сноровка у нас какая‑никакая есть», — хвастается Тадеку собеседник.
Самое удивительное в этом изводе сюжета об Иуде — это похоть, которую испытывает Шиллингер — неподкупный серийный убийца, совершенно равнодушный к собственному внешнему виду — к еврейке. По крайней мере, так видит ситуацию форарбайтер, который описывает, что обнаженное тело женщины так понравилось Шиллингеру, что он схватил ее за руку. (По другим источникам, эта она привлекла его внимание соблазнительным поведением.) Внезапно она нагнулась, зачерпнула горсть песка, бросила ему в лицо, схватила револьвер и выстрелила ему в живот.
В первом из трех финалов рассказа Шиллингер умирает очень театрально. «Всю дорогу он сквозь стиснутые зубы стонал: “О, Gott, mein Gott, was hab’ ich getan, dass ich so leiden muss?” Это значит: “О боже, боже мой, что я сделал, чтобы так страдать?”»
Если бы это был оригинальный сюжет об Иуде, то Понтий Пилат в предсмертных муках признал бы неумолимую десницу Б‑жью, и в этот момент родилась бы новая религия. Но все в рассказе Боровского противоречит героическому прочтению, не говоря уж про мученическое. Каким бы героическим ни был подвиг этой женщины, речь идет не о «мести танцовщицы», о которой рассказывает Сара Номберг‑Пшитык в книге «Аушвиц: Правдивые истории в мире гротеска», а о «смерти Шиллингера». И сам рассказ не окончен. «Вот ведь, так и не понял до конца, — качает головой Тадек, имея в виду Шиллингера. — Странная ирония судьбы». «Да, странная ирония судьбы», — задумчиво повторил форарбайтер. Во втором финале рассказа Тадек и форарбайтер целиком согласны друг с другом. Они оба понимают, что значит «ирония», и что значит «судьба» в двусмысленном моральном выводе. Поляк и еврей рассуждают одинаково, так что ирония относится к Шиллингеру, чей образ с момента смерти не стал менее тевтонским, менее вагнеровским, менее христианским.
Чтобы согласиться с этим прочтением, нужно быть готовым одновременно признать обе противоречащие друг другу правды. Насколько правдоподобны ироническая точка зрения, выраженная Тадеком, и согласие форарбайтера зондеркоманды? И насколько удачно использовано здесь слово «судьба», которое относится к пространству действия, разумного выбора, когда поступки людей влекут за собой моральные последствия? Действительно ли Тадек и форарбайтер «понимают»? Вторая концовка — это интеллектуальная шутка, отражение пустоты, довоенных категорий, дежурных фраз. Тадек и форарбайтер так же смешны, как Шиллингер, и столь же уязвимы с моральной точки зрения.
Но есть и еще одна концовка:
В самом деле, странная ирония судьбы: когда, незадолго до эвакуации лагеря, евреи из зондеркоманды, опасаясь, что их прикончат, взбунтовались, подожгли крематории и, перерезав проволоку, разбежались по полю, несколько эсэсовцев перестреляли их из пулеметов всех до единого.
Если бы задача рассказа состояла в том, чтобы прославить «женщину, убившую Шиллингера», можно было бы сказать, что цикл всеобщего зла заканчивается здесь, в момент мятежа зондеркоманды 7 октября 1944 года. Спонтанный акт сопротивления этой женщины в конце концов нашел отклик, и осужденные восстали против угнетателей. Только вот три концовки рассказа Боровского — они об одном и том же, и драматическая смерть Шиллингера разбивается, расчленяется, деконструируется на последовательность неудачных драматических актов. (1) Сцена смерти Шиллингера — явный фарс. (2) Монолог форарбайтера не более достоверен, чем его польский язык (ему удается скрыть провинциальный выговор), ведь он исходит от соучастника преступления, который даже хвастается своей сноровкой. (3) Выясняется, что за сценой тот же самый форарбайтер принимает участие в безуспешном восстании, в котором все погибли, и оно так же мало повлияло на машину смерти, как убийство Шиллингера. (4) Даже рассказ Тадека лишен смысла; искушения плоти, сцены на пороге смерти, героические поступки, коллективные действия — все смешалось и все поглощено каменным миром. («Каменный мир» — название последнего рассказа в цикле «Прощание с Марией» и последние слова этого рассказа.) Поведанная им история — чистой воды издевательство над солидарностью покоренных и осужденных, которые говорят на одном и том же языке и воспитывались на одних и тех же моральных ценностях. Язык, на котором они говорят, это «язык Аушвица», а моральные ценности, о которых они вспоминают — в перерыве между приемом транспортов, устарели, если не стали просто неприличными.
Нельзя отрицать, что Боровский был незаурядным художником — суровым реалистом, способным вести троякое повествование и несколькими словами так точно описать персонажи. Я трепещу перед его способностью анатомировать близкое зло, перед его бесстрашной честностью, перед его преданностью истине, как он ее видел, но не могу принять моральный нигилизм Боровского. Я не готов идти с ним до конца. Я настаиваю, что женщина, которая убила Йозефа Шиллингера, совершила героический поступок, как и те, кто принял участие в неудавшемся мятеже зондеркоманды и оставил сомнения в моральности поведения форарбайтера Тадека, лагерный номер 119198.
Но я знаю и другое. В 1951 году, в разгар сталинизма, когда Боровский утратил веру в коммунистическую систему, которая использовала его, он навестил в родильном доме свою новорожденную дочь, отправился домой, закрыл все окна и открыл газ.

* * *
Правительства приходят и уходят. Институты национальной памяти приходят и уходят, а об их работниках быстро забывают. Но нельзя забывать о том, что лежит в основе морали и эстетики литературы о Холокосте — о реализме писателей‑свидетелей, таких как Зофья Налковская, Михал Гловинский и Тадеуш Боровский. Характерные черты этого реализма: новый календарь и чудовищный новый лексикон, правдоподобность свидетельства, лаконизм, трезвый, сдержанный, неэмоциональный стиль, изобилующий метафорами, и восприимчивость, постоянно сопоставляющая обычное и ужасное.
Я посоветовал бы польским парламентариям вернуться в школы, освежить в памяти собственных классиков ХХ века и запомнить, каким оружием может стать текст в противостоянии близкому злу. Это звучит странно, но в рассказах Боровского и Налковской работает именно близость рассказчика и информанта. Мы, читатели, подслушиваем совершенно искренний разговор между двумя случайными знакомыми, один из которых смотрит на проблему зла более продуманно, трезво и глобально, чем другой. Перед нами Налковская, автор и рассказчица, которую работа по спасению избавляет от отчаяния, и женщина с кладбища, которая не в состоянии больше ухаживать за могилами мертвых, когда в ушах у нее все еще звучит мягких стук падающих тел. Боровский не оставляет вообще никакого выбора, потому что, если читатель выберет Тадека, бесчувственного рассказчика с циничным налетом опытного члена аушвицкой семьи, он сам станет его моральным сообщником. Задача Гловинского, которую он ставит перед самим собой и перед читателем, — преодолеть каким‑то образом временной раскол. Рассказчик и герой — это один и тот же человек, и из‑за этого разверзается и усложняется гигантская временная пропасть между тогда и сейчас. Мы одновременно чувствуем себя восьмилетним мальчиком, запертым на чердаке на арийской стороне Варшавы, и взрослым человеком, который выжил и теперь ему тяжело поверить в собственную историю.
Я предложил бы, чтобы везде, где есть люди верующие и читающие, они не забывали бы о том, как преломляется в наше время сюжет об Иуде, сюжет об оккупанте, предателе и жертве, сюжет о близости зла и трехчастности обмана и влечения. Такое знание должно принести с собой понимание. 

The New York Times: Нужны ли израильским подросткам поездки в Освенцим?

Партизаны-евреи в Польше, 1942–1945

