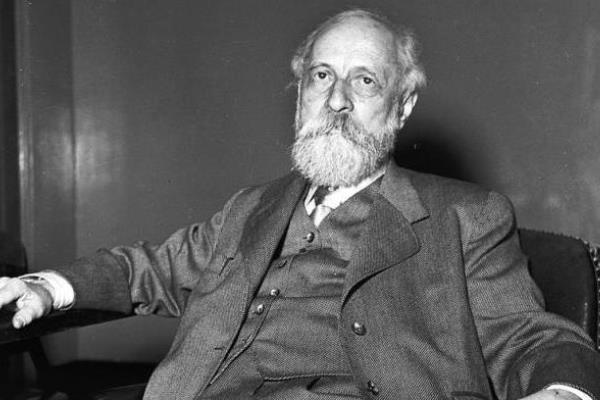К 100-летию со дня рождения философа, культуролога и писателя
Тот, кто видел Григория Соломоновича Померанца, кто слышал его тихую точную речь, с трудом мог себе представить, что этот узкоплечий, небольшого роста, на вид слабый человек провел на фронте всю войну, водил в атаку солдат, был ранен, а после войны прошел через сталинские лагеря, участвовал в правозащитном движении, не раз переживал угрозу нового ареста. И все годы этих нелегких испытаний были отмечены напряженным духовным поиском, плодотворной творческой работой.
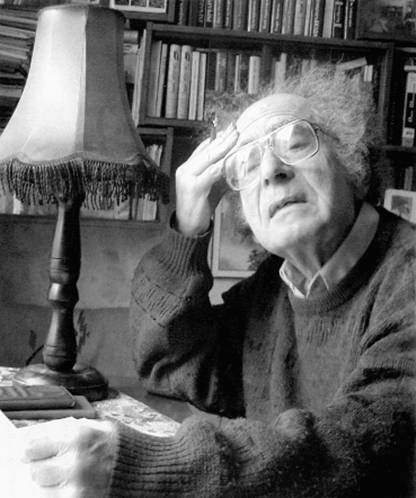
О своей жизни Померанц сам немало рассказывает в своих книгах и многочисленных публикациях. Он родился 13 марта 1918 года в тогдашнем Вильно. Его мама была актрисой еврейского театра, отец, по профессии бухгалтер, одно время был больше известен как активный деятель Бунда. Высланный за эту деятельность из Варшавы, он попал в Вильно, где и встретился со своей будущей женой.
Первым и долгое время основным языком Померанца был еврейский; русский занял его место, лишь когда он в семь лет переехал вместе с родителями в Москву и начал ходить там в школу. «Любимым писателем моего еврейского виленского детства, – вспоминал впоследствии Григорий Соломонович, – был Ицхак-Лейбуш Перец». Перечитав его уже много лет спустя по-русски, Померанц с трудом мог понять, что нашел мальчик 6–7 лет в этих хасидах, искавших Б-га в посте и молитве, почему любимым писателем стал тогда он, а не Шолом-Алейхем, которого почитали в его атеистической семье.
«В Москве 1925 года очень быстро забылся еврейский язык», – писал Померанц. Семейные связи рано распались. В 1930 году матери пришлось уехать в Киев, она получила там работу в еврейском театре. Сын остался с отцом, но его он почти не видел, и особой близости с ним не было. «С 12 лет я учился жить, опираясь только на самого себя… Я сам решал, что хорошо и что плохо. Это было не по силам моему слабому духу, но в конце концов он окреп. Я вырос человеком воздуха – без почвы, традиций и без тоски по ним».
Он не раз называл себя «человеком воздуха» и любил повторять строки Осипа Мандельштама: «Свое родство и скучное соседство мы презирать заведомо вольны». У меня сохранилась запись, сделанная на вечере, который был устроен в честь 60-летия Померанца на одной частной квартире. Григорий Соломонович прочел там доклад «О поисках ближнего через дальнего», где объяснял, почему он ищет почву не вблизи (например, в еврейском мире), а на Востоке. (Он уже тогда проявил себя как серьезный востоковед, его статьи по буддистской философии, по индийской и другим религиям и культурам получили известность не только в стране, но и за рубежом.)
– Почва для меня внутри, она не может быть ничем внешним, – говорил он. – В чужой культуре и в чужом языке можно найти недостающие слова и понятия для того, что туманно ощущает душа, что существует в мире – потому что культура не всю себя сознает.
Эту мысль я встречал потом во многих работах Померанца. «Я не боюсь потеряться, переступив через рамки вероисповеданий, национальных пристрастий, – писал он в книге “Записки гадкого утенка”. – Я остаюсь самим собой, о чем бы ни писал». И в подтверждение своей позиции приводил слова хасидского цадика Зуси: «Б-г не хочет, чтобы я был Моисеем. Он хочет, чтобы я был Зусей».
Померанц не принадлежал ни к одной конфессии, не придерживался никаких ритуалов, но я не знаю человека более религиозного, чем он. Религиозно все его мироощущение, само отношение к жизни. Рассуждая о разных вероисповеданиях, он мне как-то сказал:
– Окна у людей могут быть разной формы, квадратные, прямоугольные, круглые. Но свет, который в них льется, для всех один.

Г. Померанц в костюме «юнгштурм», модном в 1920-х годах
* * *
О том, что он все-таки еврей, Померанцу, конечно же, напоминали не раз. В его «Записках» можно встретить эпизоды всем известного бытового антисемитизма. Но по-настоящему заставил его коснуться этой темы роман Солженицына «В круге первом». В некоторых эпизодах романа он почувствовал что-то недостоверное, как будто затаенную неприязнь к евреям. За ними угадывалась не вполне осознанная детская травма, комплекс обиды. Он написал по этому поводу Солженицыну письмо.
«У меня самого была куча комплексов, от которых я освободился. И я пытался убедить Солженицына проанализировать свои комплексы и не продолжать свои распри». Отклик Солженицына оказался неожиданно резким. Это стало началом полемики, которая длилась не один год и получила широкую известность.
«Александр Исаевич Солженицын разбудил во мне еврея (это целую четверть века не удавалось отечественной истории…), – написал впоследствии Померанц. – Но, получив толчок, – продолжал он, – я тут же почувствовал, что не способен быть только евреем. Во всех отношениях – и в национальном тоже – я не такой, как надо».
Размышления на национальную тему привели Померанца к проблеме диаспоры. По поводу слов Н. Трубецкого (русского философа, убитого гитлеровцами в Австрии) о том, что сложившаяся после революции русская диаспора приобрела типично «еврейские», то есть общие для всей диаспоры, черты, Григорий Соломонович заметил: «Но евреи – старейший народ диаспоры, веками лишенный национального ядра. Поэтому вопрос о диаспоре – это вопрос о евреях и вместе с тем не только о евреях».
Для Померанца все это были не просто теоретические, философские темы. В тех же «Записках гадкого утенка» он рассказывает, как два года колебался, уезжать ли ему вслед за многими близкими друзьями в Израиль. И решил остаться. Одну из причин он объяснил так: «Я не мог представить себя в другом языковом облике. А если за мною всюду потащится русский язык, то зачем без крайней нужды уезжать из России?»
Решение для каждого индивидуально, говорил он. «Б-гу безразлично, в какой угол человек забьется. Важно, чтобы это был его угол, чтобы человек нашел свой дом». И в письме, отправленном мне 25.1.2004 года, он по-иному выразился о том же: «Что больше вредит человеку, приспособление к трудной жизни в диаспоре или по-иному трудной в Палестине? Одно и то же вино, говорит Талмуд, иного делает львом, а иного – свиньей».

С супругой Зинаидой в Норвегии. 1999 год
* * *
Связь с русским языком, русской культурой, русской литературой была для Померанца жизненно важной. Особенно много значил для него Достоевский. Еще во время учебы в Институте философии и литературы (ИФЛИ) он занялся изучением его творчества и углублялся в него всю жизнь. Статьи Померанца на разные темы получали широкое хождение в тогдашнем самиздате, имя его было у всех на слуху.
Впервые мы встретились с ним в мае 1972 года у нашего общего друга, замечательного востоковеда Евгении Владимировны Завадской. Она показала Померанцу мою статью об иронии у Томаса Манна, только что опубликованную в журнале «Вопросы философии». Григорию Соломоновичу статья понравилась.
– Но ирония все-таки ограничивает, – заметил он. – На уровне религиозном проблемы иронии снимаются. Прорыв на этот уровень давался иногда Достоевскому. Томас Манн оставался больше в области культуры.
Среди прочего его заинтересовала в статье мысль о том, что человек, ввязавшийся в политику, поневоле вынужден бывает расстаться с иронической позицией. Для творческого человека благо – разделавшись с политикой, вновь вернуться к иронии.
В 70-х годах, когда я с ним сблизился, Померанц отошел от активной диссидентской деятельности. Отчасти потому, что многое в этом движении оказалось ему чуждо, отчасти потому, что не чувствовал себя Дон Кихотом. «Политическая безнадежность освободила меня от политических задач, – писал он. – Свобода от практической цели сделала семидесятые годы самыми плодотворными в моей жизни. Я писал “Сны земли”, писал о Достоевском и попытался довести до печатного станка теоретические наброски, начатые в 60-х годах с целью создать альтернативу официальной концепции всемирной истории».
Я стал часто бывать у него, в небольшой двухкомнатной квартире на улице Новаторов, где они с женой Зинаидой Александровной Миркиной живут и сейчас. О том, что значила всю жизнь для Григория Соломоновича эта женщина, мне вряд ли написать лучше самого Померанца. Ее стихи воспроизводятся во многих его статьях и книгах, не просто подтверждая его мысли – у них общее мироощущение. Впрочем, то, что объединяет этих людей, можно назвать проще: любовь.
– Мы с Гришей живем уже много лет, и наша любовь не только не слабеет, но становится сильней, – сказала мне однажды Зина (мы все трое с первых же дней знакомства стали называть друг друга по имени). – Те, кто сам этого не испытал, не поверят, что такое возможно.
Однажды я обнаружил, что телефонный аппарат они уносят в другую комнату и прячут там в ящик для белья.
– Вот почему я вечерами не мог к вам дозвониться, – сказал я.
– Да, вечерами мы слушаем музыку, – ответил Гриша. Утром они оба работали, днем ходили гулять в ближний лес.
Совсем «уйти из истории», как выразился Померанц, ему, однако, не удалось. Новые события вынуждали его откликаться, его статьи сразу становились известны, печатались за рубежом, передавались по радио. Однажды его вызвали в КГБ, предложили подписать стандартное предупреждение (я тоже такое подписывал) об ответственности «за продолжение антисоветской деятельности». Подпись Померанц поставил, но добавил, что, отказываясь от политических заявлений, не будет препятствовать публикации за рубежом своих статей и книг литературно-исторического и философского характера. Как ни странно, власти предпочли это терпеть и не трогать слишком известного человека.
Григорий Соломонович к тому времени уже не один год работал библиографом в Фундаментальной библиотеке Института общественных наук. Он реферировал поступавшие в библиотеку книги и статьи на разных языках, писал на них аннотации. Эта малопрестижная работа открывала ему, однако, возможность знакомиться с мировой мыслью, наращивая незаурядную эрудицию. Как-то я увидел на его столе письмо, пришедшее из Италии; адресовано оно было «профессору Померанцу». Никто за рубежом представить не мог, что обращаются они к рядовому библиографу без всякой ученой степени, не защитившему даже диссертацию. В свое время Померанц написал их даже две: одну, еще незаконченную, изъяли при аресте и сожгли, другую защитить не дали. Так он до сих пор без степени и обходится. (Не знаю, удосужился ли какой-нибудь университет хотя бы сейчас присвоить ему ее honoris causa?)
«Я… в социальной структуре никто», – писал Григорий Соломонович. Кем вообще назвать его? Литературоведом, эссеистом, публицистом, философом, культурологом? Быть может, точней всего просто мыслителем, подумал я однажды. Кто, в самом деле, достоин этого определения больше, чем он?
Помнится, как-то один из собеседников полушутя обратился к нему: ребе.
– Что делать, ребе, скажите?
Это было в пору, когда то и дело начинались разговоры о близящейся катастрофе. Померанц их не поддерживал.
– У меня есть чутье на большие расстояния. Конца в одной отдельно взятой стране не будет. Россия как-то выпутается. Проблема в том, что будет с человечеством в целом.
Он не принимал и утверждений, будто в наше время происходит разрушение личности.
– Личность разрушается всегда, – сказал он мне однажды, – она сохраняется и развивается, только если противостоять потоку. Даже в сравнительно спокойные времена она разрушается, если человек идет по течению.
Может быть, именно эта внутренняя напряженность, готовность идти против течения, преодолевая внешние обстоятельства, позволила этому человеку, отнюдь не блиставшему здоровьем, дожить до своего возраста.
«Я не хочу, чтобы моим друзьям непрерывно везло, – писал Померанц в “Записках гадкого утенка”. – Дерево, выросшее под ветром и дождем, лучше оранжерейной пальмы. В нем больше внутреннего напряжения, жизни, красоты».
Свойство, которое при всех испытаниях помогало ему держаться, я бы назвал способностью к счастью – способностью, которая дается подлинно религиозным мироощущением.
«Сам Б-г не сумел сотворить мир так, чтобы в нем не было страдания, – читаем мы в “Записках гадкого утенка”. – Закончив день, он говорил: тов (хорошо!)». И людям, которые спрашивали Его, зачем же в этом мире столько страданий, Он отвечал: «Я страдаю вместе с вами». Но «снова, как в первые дни говорю: тов – хорошо! Йом тов! – хороший день, праздник!»
И в другом месте Померанц развивает близкую мысль, ссылаясь на собственный опыт:
«Я был счастлив по дороге на фронт, с плечами и боками, отбитыми снаряжением, и с одним сухарем в желудке, потому что светило февральское солнце и сосны пахли смолой. Счастлив шагать поверх страха в бою. Счастлив в лагере, когда раскрывались белые ночи. И сейчас, в старости, я счастливей, чем в юности. Хотя хватает болезней и бед. Я счастлив с пером в руках, счастлив, глядя на дерево, и счастлив в любви».

В Норвегии тремя годами позже
* * *
До самого последнего времени Померанц ездил на велосипеде за продуктами в дачный магазин. Однажды, собираясь приехать ко мне и уточняя по телефону адрес, он спросил, можно ли от метро не ехать ко мне на автобусе, а идти пешком. Я был тронут: ему исполнилось в тот год 67 лет, и он поехал на другой конец города, чтобы продолжить начатый по телефону разговор о моем только что законченном романе «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича». Гриша был первым читателем этого романа, который тогда существовал только в рукописи, перепечатать рукопись взялся его сосед. Меня ободрил добрый отзыв Померанца, но запомнились и его оговорки. Ни один мой герой, по его словам, не нашел пути к «высокой жизни», которая возможна даже в наших условиях, даже в провинции. Он подтверждал это рассказами о своих многочисленных корреспондентах из разных городов и даже прочел мне большое, очень умное письмо одной несчастной и незаурядной женщины, которая в духовном одиночестве напряженно ищет чего-то, к чему-то пробивается.
Для него с Зиной очень много значило общение с разными людьми. Оба вели обширную переписку, много выступали. Однажды знакомая библиотекарша попросила меня помочь: у нее сорвалось чье-то назначенное выступление перед читателями. Я позвонил Померанцу – он с готовностью согласился выступить.
– Вы не любите публичные выступления? – спросил он меня. – А для меня они очень важны.
Как-то Померанц принимал участие в популярной телевизионной передаче, по ходу дела упомянул, что у него через день выступление. И слушать его пришла толпа народа, на улице, рассказывал он мне потом, топталось человек триста, не могли войти, зал на такое количество не был рассчитан.
– Телевидения, нам, конечно, не хватает, – сказал он.
С годами вокруг него и Зины сложилась своего рода община поклонников, слушателей, читателей, просто людей, которым нужны их совет, слово, поддержка. Их выступления записываются, записи эти, включая ответы на вопросы, издаются на деньги, собранные почитателями, на такие же пожертвования издавались и другие их книги. Тиражи бывали небольшие, и аудиторию у них, что говорить, не сравнить было с той, что иные собирали на стадионах.
Что может значить существование такого крохотного меньшинства для общества, невосприимчивого порой даже к самым очевидным истинам, для судеб страны, культуры? – не раз задавался я вопросом. Гриша однажды мне на это ответил:
– Будда сказал: мое Я иллюзорно. Но личность может оказывать огромное влияние на развитие людей.
Вечер в честь 85-летнего юбилея Померанца был устроен в малом зале ЦДЛ, вмещающем человек сто – при нормальном оповещении он, несомненно, мог бы собрать и большой зал, человек пятьсот. Я сам узнал о вечере только потому, что позвонил ему. Слушали его с любовью, говорили о нем восторженно. Мне запомнился рассказ одного из выступавших про то, как Померанц летел на конгресс, кажется, русской интеллигенции в Уфу. У самолета что-то случилось с шасси, он стал кружить над аэродромом, вырабатывая горючее на случай аварийной посадки. И рассказчик услышал от совершенно спокойного Померанца:
– Жизнь представляется мне скрипучей пластинкой. Некоторые слышат скрип сквозь музыку, другие сквозь скрип слышат музыку.
Григорий Померанц ушел из жизни 16 февраля 2013 года.
(Оригинал статьи опубликован в №192, апрель 2008)

«Я выбираю свободу…»

Евреи на войне: от советского к еврейскому?