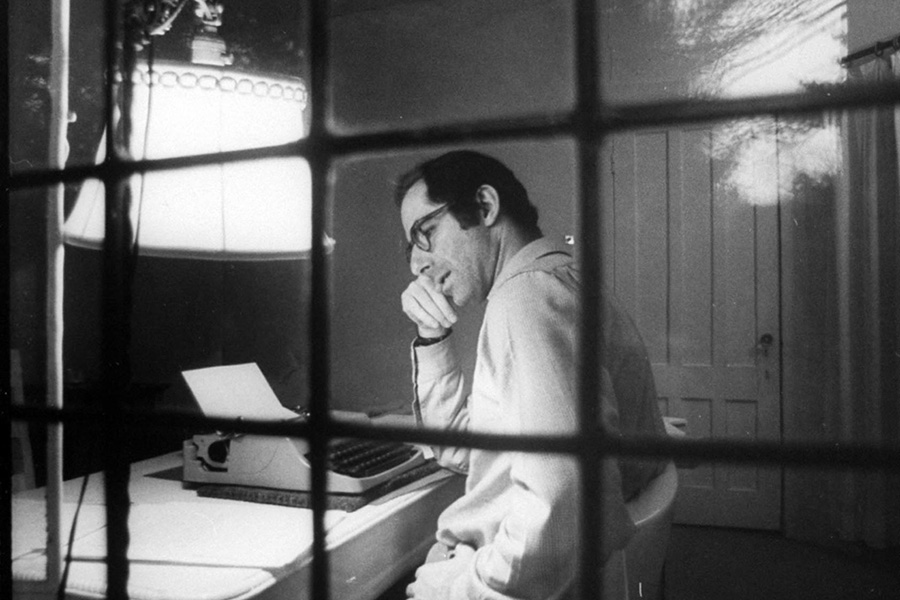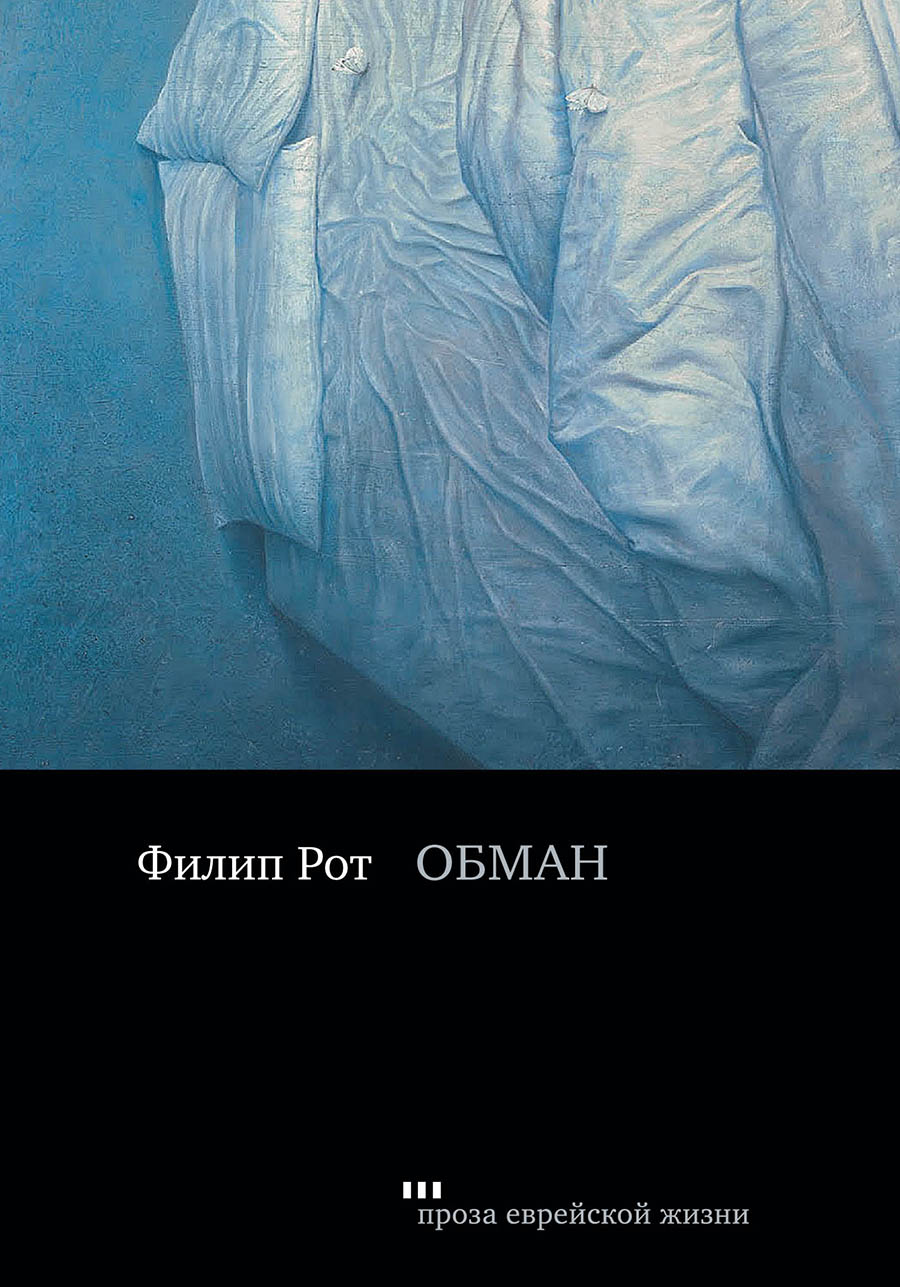
ФИЛИП РОТ
Обман
Перевод с английского И. Стам.
М.: Книжники, 2018.
Чем капуста отличается от лука? Тем, что у лука нет кочерыжки. А у капусты есть.
Перелистывая роман Филипа Рота «Обман» («Deception», 1990) лист за листом, словно снимая лист за листом с капустного кочана, испытываешь сначала раздражение — аж глаза слезятся — как от лука, но продолжаешь верить, что это все‑таки капуста — и кочерыжка непременно найдется. Но есть ли она внутри, пусть не самая вкусная и часто горчащая, но твердая и определенная кочерыжка?
В идише есть два слова — оба из иврита — таких полезных и таких непереводимых, что они без всякого перевода вошли в тот американо‑еврейский, на котором разговаривали если не герои Филипа Рота (они люди интеллигентные, в университетах учились, в писатели выбились), то их родители. А перевести их нельзя, потому что они слишком еврейские и выражают самую суть еврейского миросозерцания с его одновременной приверженностью эмпирике и метафизике, точнее, нераздельностью эмпирики и метафизики. Между прочим, эти два слова входили и в русско‑еврейский, по крайней мере, я их часто слышал в детстве. Вот они: тахлес и икер! Ву из дер тахлес? (Где цель?) Вос из дер икер? (В чем суть?)
Филип Рот — я недаром сказал о нераздельности эмпирики и метафизики — всегда предельно конкретен, погружен в обстоятельства и характеры своих героев, и всегда метафизичен, идеологичен, в каждом его романе всегда есть проблема, которую он стремится если не решить, то поставить. Мы к этому привыкли, мы этого ждем. Но роман, честно названный автором «Обманом», обманывает ожидания. А здесь о чем? Читаешь‑читаешь, вычитать не можешь. Ву из дер тахлес? Вос из дер икер? Действительно, какой‑то сплошной обман.
Во‑первых, это не роман. Что же это за роман, в котором нет ни слова авторской речи — только прямая. Такие штуки честные люди называют пьесами. Это само по себе революционное новшество. Мы знаем, есть пьесы для чтения, то есть романы, написанные в драматической форме, — «Фауст» Гёте, например, или «Бердичев» Фридриха Горенштейна. Дело нечастое, но привычное. Здесь, наоборот, пьеса, прикинувшаяся романом. Я живо представляю себе эту вещь на сцене. Кстати сказать, до этого я ни одной пьесы у Филипа Рота не читал. По‑моему, их и нет.
Во‑вторых, в нормальной пьесе хотя бы реплики героев подписаны:
Гамлет: ….
Офелия: ….
Гамлет: ….
И т. д.
А здесь все время приходится напрягаться, чтобы, следя за глагольными окончаниями, понять, кто говорит — герой или героиня. Напоминает анекдот о том, как отличить кота от кошки. Если побежал — это кот, если побежала — это кошка.
Это то, с чем с самого начала сталкивается читатель. Потом ему становится кислее. Вплетаются новые голоса, отчетливо не имеющие отношения к предыдущим, но кто они — непонятно.
Совершенно реалистическая по фактуре — стилю и слогу — книга оказывается жестким модернистским экспериментом. Читателю предлагают стать соавтором, рассматривать отдельные фрагменты, разделенные пробелами, как заготовки, как детали конструктора «Лего», и сложить из этих деталей настоящий, доброкачественный роман — в своей голове. Добросовестный читатель будет все время занят этой работой и только в самом конце выяснит, наконец, кому принадлежали непонятные реплики и монологи, то и дело врывавшиеся в основной текст. Отличный способ добиться внимательного чтения!
Постепенно внимательный читатель понимает, что главный герой романа не просто писатель (это становится понятно достаточно быстро), а постоянный персонаж прозы Филипа Рот — Филип Рот № 2. Этот Рот № 2 собирается написать биографию некоего писателя — биографа великого писателя Цукермана, сквозного героя трилогии, написанной Ротом № 1 в 1980‑х годах.
То есть Филип Рот рассказывает о писателе — своем двойнике, который рассказывает о писателе, который рассказывает о писателе, о котором уже все на свете рассказал Филип Рот.

Может быть те самые икер и тахлес в том, что писатель должен писать о том, что знает? А что писатель знает лучше самого себя и своего писательского труда? Как сказала Ахматова: «Только зеркало зеркалу снится». Но уже следующая строчка из ахматовского двустишия: «Тишина тишину сторожит…» не работает. Меланхолические диалоги любовников — Рота и его английской дамы — разрывают все новые голоса: каких‑то чешек, чехов, полячек, потом какой‑то американки, у которой подозревают рак… Конструктор становится все сложнее.
Еще не поняв, что к чему, читатель вдруг получает серию как бы застрявших в основном тексте небольших рассказов о судьбах людей из Восточной Европы и об их способности или неспособности адаптироваться к ценностям «свободного мира». С этими новеллами резонирует рассказ (документальный? — Б‑г весть) о посещении Ротом коммунистической Праги. Полагаю, что в 1990 году, когда «Обман» увидел свет, тема беженцев из восточного блока была особенно актуальной. Все понимали, что «железный занавес» проржавел и вот‑вот рухнет. К чести Рота нужно сказать, что он не только ничуть не симпатизирует подгнивающему соцлагерю, но и не испытывает особых сантиментов к тем, кто вырвался оттуда. Он как‑то так про них (то есть про нас) все отчетливо понимает, что прямо диву даешься — вот ведь до чего умен и прозорлив.
А многоголосие персонажей и тем, в том числе политических, все увеличивается. Рот кажется почти пророком в своих рассуждениях о нарастающем в Европе антисемитизме и антисионизме, особенно в левацкой среде. В 1990 году эти тенденции были еще внове. Конечно, говорится об этом так, что нам остается гадать, что перед нами — реальные политические факты или невроз говорящего, но Рот на то и Рот, чтобы груз сомнений сразу поручить своему герою. Есть в этой лоскутной и одновременно очень целостной книге и одна уморительно смешная сцена, в которой стареющего бабника Рота судит высокий феминистический суд. А он отбивается ссылками на свою любимую писательницу Колетт, ту самую, которая попала в список авторов, в наибольшей степени повлиявших на его творчество.
Есть там и еще один автор, о котором Филип Рот говорит хоть и мельком, но серьезно, — это Флобер. Тоже из числа героев его списка личных литературных предпочтений. То есть это еще и роман о литературе, о традициях и влияниях. Впрочем, все романы Рота — больше или меньше — о литературе, точнее, и о литературе тоже.
В «Обмане» речь идет не только о предпочтениях прошлого, есть и задел на будущее. Филип Рот‑персонаж мельком встречает в Лондоне своего друга и ровесника, замечательного израильского писателя Аарона Аппельфельда, который через три года станет персонажем одного из лучших романов Рота «Операция “Шейлок”» (1993). Есть печальная символика в том, что в этом, 2018 году, умерли и Аарон Аппельфельд (он был на год старше Рота, и умер на полгода раньше), и Филип Рот.
Но все‑таки все эти политические и литературные замечания, разбросанные по всему роману, — только завихрения на поверхности мощного потока, который, вбирая в себя все новые притоки, остается настоящим романом, то есть историей о любви, парафразом «Госпожи Бовари», о чем, не скрываясь, говорит нам автор. История, хоть и мастерски сконструированная, приближаясь к финалу, становится, как кажется, понятной и несколько традиционной.
И лишь в самом конце на читателя вдруг обрушивается подлинный смысл романа, который, не отменяя всех предыдущих, ставит наконец главный вопрос. И это вопрос о границах литературы, о том, насколько правда человеческих отношений может быть сырьем для писательского вымысла? О том, что такое художественная правда?
Торжествующий нон‑фикшн в последние десятилетия теснит беллетристику. Филип Рот выходит на бой с этой тенденцией, потому что в его арсенале есть новое, неслыханное оружие. Его бойцы, персонажи романа, переходят линию фронта во вражеской амуниции и, прикинувшись реальными лицами, шарят по тылам противника.
Роман дочитан, кочан разобран по листику, и вот она — вожделенная кочерыжка, до которой мы добрались совместными усилиями с писателем. (Напомню, что роман написан в неслыханной манере «сделай сам».) Только тут выясняется, что роман‑то не про любовь (точнее, не только про любовь), а про то, кто же, наконец, его написал, Филип Рот № 1 или Филип Рот № 2, Рот‑автор или Рот‑персонаж. Это роман, ставящий под сомнение демиургическую власть автора над своими героями.
Традиционно в основе художественного произведения лежала конвенция собственной, литературной правды, напоминающей историческую правду. Наполеон выиграл сражение при Аустерлице — это факт. В войне с французами Андрей Болконский погиб, а Пьер Безухов выжил. Это тоже факт, хотя Болконского и Безухова, в отличие от Наполеона, никогда не существовало. Филип Рот в романе «Обман» ставит эту ключевую, всем понятную конвенцию под сомнение. В этом романе мы не сможем отличить бывшее от небывшего, исторический факт от художественного, автора от героя.
Недаром этот роман (или все‑таки пьеса?) называется «Deception» — очень богатое слово. Это не только «обман», но и «заблуждение», и «уловка», и «обольщение» (как же без обольщения в романе про адюльтер), и «мистификация».
И «хитрость».
Простительная, непростительная или восхитительная — вам решать.
Последняя реплика героини (и предпоследняя фраза в книге) звучит так: «Очень странная история».
С этим трудно не согласиться. 
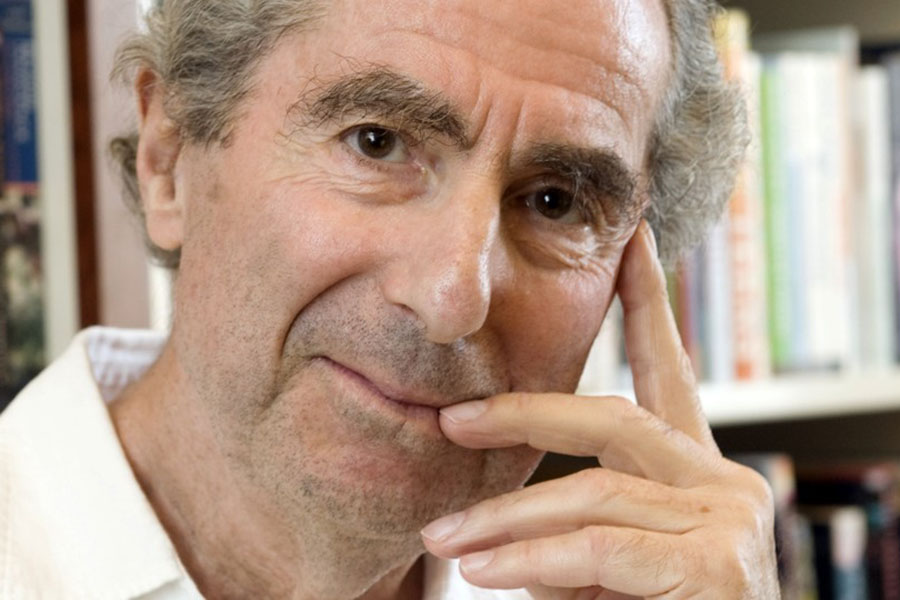
The Atlantic: Вcпоминая Филипа Рота, гиганта американской литературы
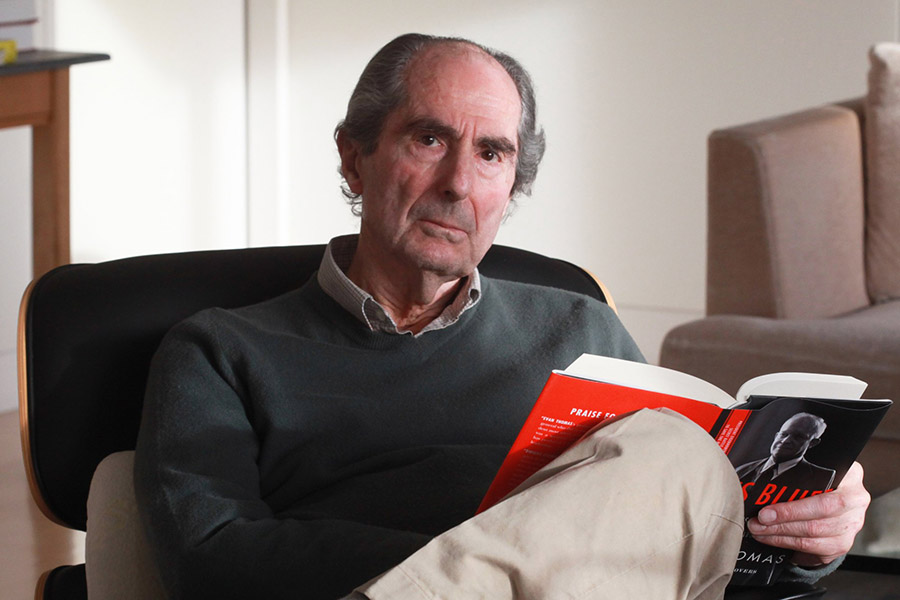
The New York Review of Books: Соперники Рота