Материал любезно предоставлен Jewish Review of Books
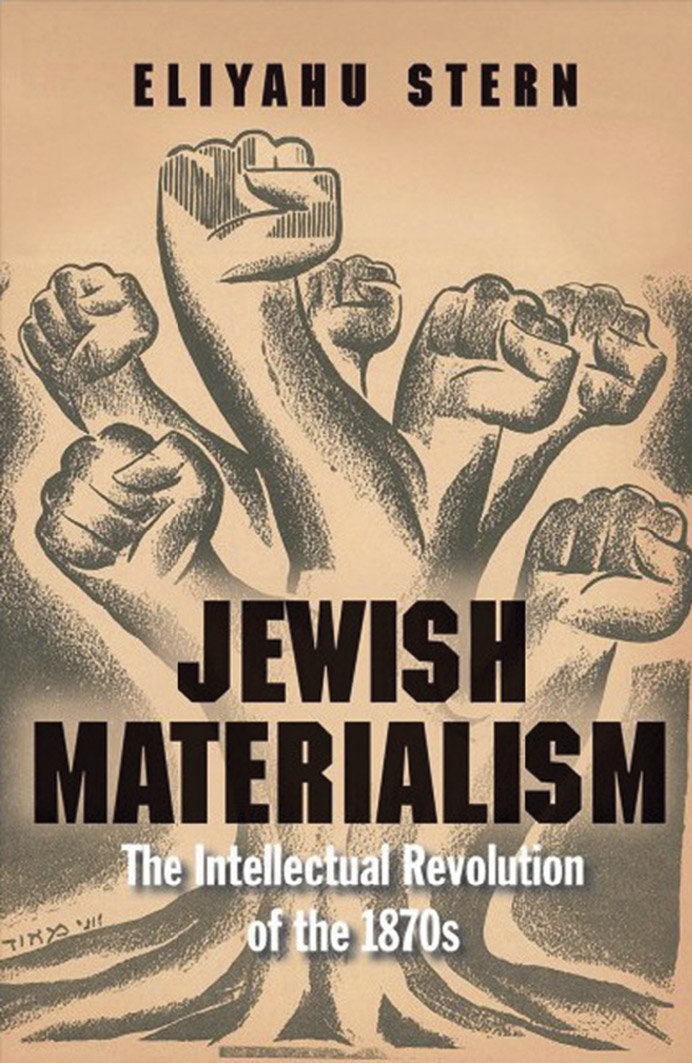
Eliyahu Stern
Jewish Materialism: The Intellectual Revolution of the 1870s
Yale University Press, 320 p.
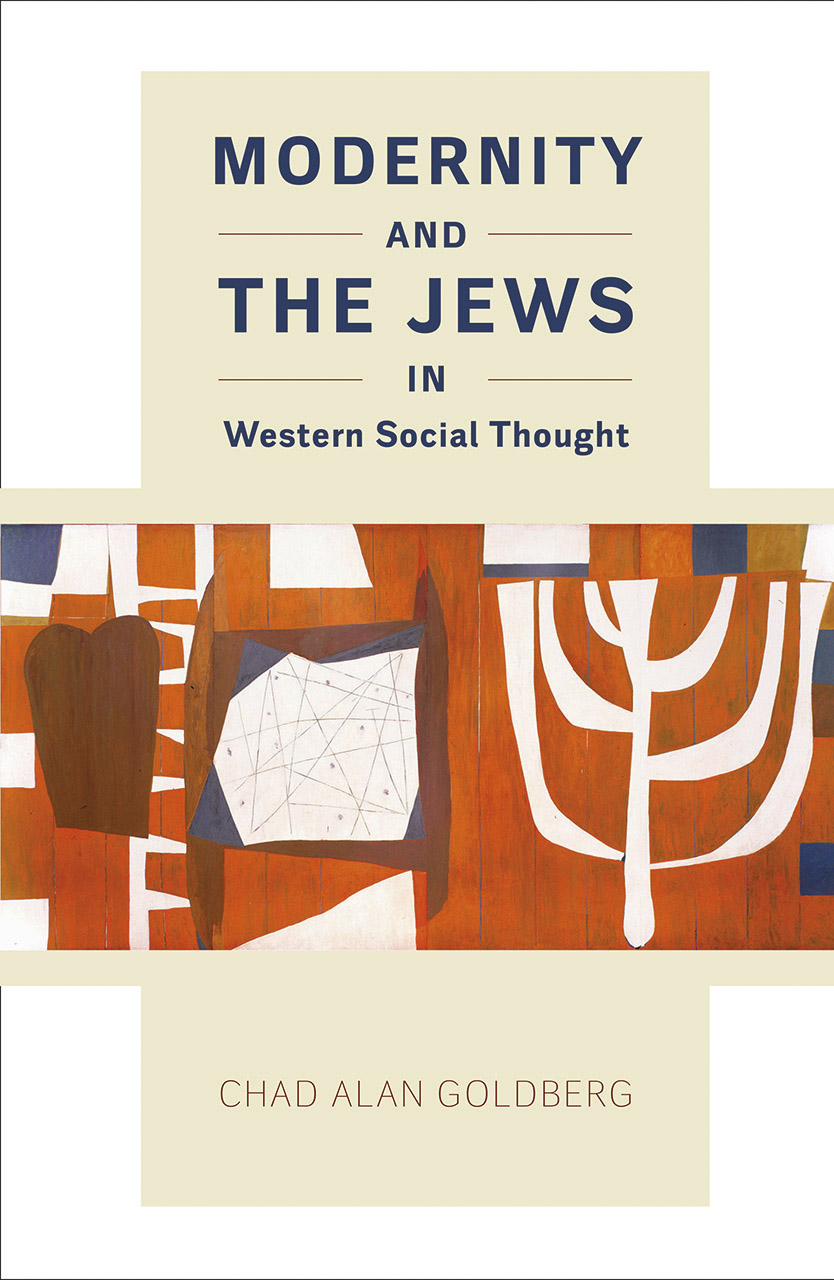
Chad Alan Goldberg
Modernity and the Jews in Western Social Thought
The University of Chicago Press, 256 p.
Можно ли считать евреев квинтэссенцией Нового времени? Или, наоборот, модерность чужда им, и эта сила нанесла им сокрушительный удар? Подготовило ли их многовековое существование в качестве торговой, мобильной и маргинальной группы к тому, чтобы стать авангардом нового мира, или же они, как традиционные крестьяне или жители колоний, с трудом приспосабливались к переменам, которые поначалу казались им почти непереносимыми? Другими словами, нужно ли относить евреев к курицам, которые снесли современный мир, или разумнее причислять их к яйцам?
Чад Алан Голдберг и Элияу Стерн рассматривают эти альтернативы — и, изучая одну, каждый из них, кажется, почти не подозревает о существовании другой. «Модерность и евреи в западной общественной мысли» Голдберга — это лаконичное, напряженное, выдержанное в единой концепции и ювелирно выверенное сравнение того, как социологи Франции, Германии и Соединенных Штатов воспринимали причинно‑следственную связь между модерностью и евреями. «Еврейский материализм: Интеллектуальная революция 1870‑х годов» Стерна, наоборот, — подробное переосмысление интеллектуальной истории евреев Восточной Европы в тот период, когда еврейские либеральные и модернизационные идеи стали радикальными и революционными.
Голдберг рассматривает ситуацию так, как ее видели со стороны нееврейские теоретики общественной мысли Вернер Зомбарт, Макс Вебер и Роберт Парк, а также ассимилированные или крещеные евреи Карл Маркс, Эмиль Дюркгейм и Георг Зиммель. Все они рассуждали о том, считать ли евреев олицетворением модерности или пережитком прошлого. Стерн, наоборот, излагает события практически исключительно так, как их видели восточноевропейские еврейские интеллектуалы, писавшие на идише и на иврите. Такие люди, как эксцентричный Мойше Лейб Лилиенблюм, духовный националист Перец Смоленскин и социалист Аарон Либерман, пытались осмыслить, что капитализм и национализм делают с народом, живущим в черте оседлости. Персонажи обеих книг известны, но оба автора — каждый с определенным успехом — пытаются по‑новому взглянуть на старые идеи.
Исследование Голдберга построено на загадочном факте: великие социологи имели тенденцию изображать евреев либо как пугающе протомодерный народ, либо как безнадежно отсталый. Хотя Голдберг не первый, кто отмечает эту поразительную дихотомию, он анализирует ее более подробно и системно, чем его предшественники, и даже составляет график, в котором располагает мыслителей по горизонтальной оси «прогрессивные — отсталые евреи» и по вертикальной оси «позититивное — негативное отношение к евреям». Так, Зиммель, Зомбарт и ранний Карл Маркс считали, что евреи опередили свое время, а Дюркгейм, Вебер и поздний Маркс считали их отсталыми. Все вышеперечисленные (хотя можно оспорить, что Зиммель попал в этот список по праву) изображали евреев в негативном ключе, независимо от того, считали ли они их прогрессивными или отсталыми. Из мыслителей, которых изучает Голдберг, только американский социолог Роберт Парк и его последователи попадают в квадрат «позитивные» и «прогрессивные».
Хотя у Голдберга есть своя теория по поводу места евреев в модерной социологии, он не оставляет без внимания и соображения, связанные с локальным контекстом. Например, хотя Дюркгейм не был соблюдающим евреем и даже не считал себя связанным с еврейской общиной, он создал теорию еврейской отсталости, которая независимо от обоснованности имела то положительное свойство, что она подрывала реакционную антисемитскую идею об ответственности евреев за Французскую революцию. Будучи сам сторонником принципов 1789 года, Дюркгейм предполагал, что традиционная еврейская жизнь является примером «механической солидарности», устаревшей формы общинности, которая расходилась с духом индивидуализма, свойственного революции. Это хитрый маневр, поскольку такая теория предполагает, что евреи олицетворяют тот самый реакционный порядок, который антисемиты мечтают теперь восстановить! Тем не менее Дюркгейм не столько обличал своих единоверцев, сколько одобрял то, как они в конечном итоге адаптировались к новому либеральному порядку.

Это движение похоже на то, которое предпринял молодой Маркс, хотя в случае последнего предубеждение против евреев заметно гораздо сильнее. С удовольствием отмечу, что Голдберг не углубляется в повторение знакомых фраз из поразительно гнусной работы Маркса «К еврейскому вопросу», а обращается к гораздо более интересной проблеме. В этом раннем (1843–1844) сочинении Маркс отождествляет евреев с отчужденным миром современного буржуазного общества, царства частной собственности, торгашества и войны всех против всех — иными словами, нового капиталистического режима. Однако в более поздних работах Маркса, особенно в «Капитале», немногочисленные разрозненные замечания о евреях рисуют их как пережиток домодерной формы «торгового капитализма». Маркс убежден, что сам по себе этот тип никогда не смог бы породить новый мир.
Голдберг использует это противоречие в работах Маркса для подтверждения своей общей теории, а именно, что специфический дуализм, относящий евреев либо к прогрессу, либо к регрессу, в конечном итоге восходит к явлению, которое он называет секуляризованным протестантским «складом мышления», оперирующим метафорами, почерпнутыми из христианской теологии. Вследствие этого социальные теоретики неосознанно руководствовались богословской идеей замещения, гласящей, что христианство пришло на смену иудаизму, а Новый Завет решительно вытеснил Ветхий. Это помогает объяснить описание товаров, которые функционируют как деньги и одновременно как «евреи внутреннего обрезания». Как проницательно объясняет Голдберг, это означает, что современные капиталисты настолько усвоили и улучшили средневековое еврейское ростовщичество, что им уже не нужно никакого внешнего знака (физического обрезания Ветхого Завета) — они могут служить воплощением внутреннего «обрезания сердца» апостола Павла.
По мнению Голдберга, почти все классические социологи неосознанно усвоили схему вытеснения, хотя и по‑разному. «Отношения между евреями и христианами, — пишет он, — сформировали код, обозначающий отношения между домодерной и модерной эпохой». Поскольку евреи представляют собой метафору, которой не могут избежать ни еврейские, ни нееврейские теоретики, они превратились в мощный символ в спорах о модерности, практически не имеющий какой‑либо связи с реальными евреями и их общинами.
Например, Вернер Зомбарт основывался на базовой концепции раннего Маркса, который, похоже, отождествлял капитализм с финансами, а финансы — с еврейским «торгашеским духом». Но Зомбарт игнорировал позднего Маркса, который отмечал, что у евреев мало общего с современной фабричной системой массового производства, которую он теперь считал отличительной чертой капиталистической эксплуатации. Современник Зомбарта Макс Вебер, наоборот, присоединялся к соображениям позднего Маркса о промышленном капитализме, хотя для Вебера религиозное мировоззрение было важнее классового. Вебер идентифицировал евреев с более ранней и более ограниченной формой экономической жизни — «капитализмом париев», в котором отсутствует протестантское аскетическое стремление к спасению, которое Вебер, как известно, считал обязательным для модерной капиталистической революции. Как и в схеме замещения, «протестантская этика» Вебера универсализируется в этосе, в данном случае секулярном, который имплицитно присутствовал в иудаизме, но никогда не был полностью реализован. Еще один вариант предлагает «Философия денег» (1900) Георга Зиммеля, в которой автор вывернул наизнанку Маркса и Зомбарта, охарактеризовав деньги как наивысшее освободительное явление, которое сводит все товары и ценности к денежным отношениям и дает людям возможность реорганизовать свои отношения на основе выбора, а не на основе феодального принуждения. Зиммелевское сравнение денег с евреями не вполне позитивное, однако, как остроумно замечает Голдберг, если Зиммель и не опроверг проклятие, брошенное евреям Марксом, то, «подобно Биламу на горе Пеор, он, по крайней мере, заставил его прозвучать как благословение».
Глава, которую Голдберг посвятил Парку и Чикагской социологической школе, основанной Парком вместе с Уильямом Томасом в 1920‑х годах, содержит наибольшее количество научных открытий. Но в то же время она противоречит «замещающей» гипотезе автора. Потому что здесь Голдберг обнаруживает обширное поле социологических исследований, в которых евреи предстают почти в филосемитском блеске. Парк, учившийся у Зиммеля в Германии, превратил его концепцию «чужака» — почти наверняка построенную по образу еврея — в концепцию «маргинального человека». Это тип, живущий в коротком промежутке между старым миром племенной общины (или гетто) и новым миром городского сосуществования. «Эмансипированный еврей, — писал Парк, — исторически и типически был и остается маргинальным человеком, первым космополитом и гражданином мира» . Чикагская школа Парка с ее вниманием к процессам эмиграции, урбанизации и преобразованию американского плавильного котла рассматривала еврейских эмигрантов как образец. Такое впечатление на Парка произвела не ассимиляция евреев, а их способность развивать оригинальные институты, как нью‑йоркская кеила и пресса на идише, которая упрощала эмигрантам адаптацию, одновременно незаметно изменяя Америку. «В случае еврейской группы, — отмечал он, — мы находим спонтанные, разумные и высокоорганизованные эксперименты в области демократического контроля, которые могу принять характер перманентного вклада в организацию американского государства».
Этот взгляд плохо вписывается в предлагаемую Голдбергом структуру замещения. Немецкие социологи, такие как Зомбарт, видели в евреях воплощение экономической модернизации и предсказывали, что их затмит наступление социализма (еще одна концептуальная параллель с христианством, пришедшим на смену иудаизму). Но для Парка и его единомышленников евреи сами по себе были мессией. Эмансипированный и вышедший из гетто еврей, по мнению Чикагской школы, это совсем не еврей, лишенный корней. На самом деле, в новой американской этнической мозаике евреи в существенной мере сохраняют свою уникальную идентичность. Евреи Парка — растворитель цивилизации, но самим евреям растворяться ни к чему. На самом деле никакого еврейского вопроса не существует. Так что если повсеместно применять предложенные Голдбергом категории замещения, мы обнаружим, что для Парка в этой схеме места нет.
Познакомившись с книгой Голдберга, который видит в модерной социологической теории отражение секуляризованной концепции замещения, удивительно видеть, как Элияу Стерн в своем «Еврейском материализме» пытается освободить вынесенное в заглавие выражение от длинного шлейфа христианского антисемитского клейма. «Плотский иудаизм» отцов церкви в XIX веке трансформировался в «теории заговора, которые заявляли о существовании небольшой, но могущественной [еврейской] клики <…> управляющей мировыми рынками». Но, как сообщает читателю Стерн, это не тот еврейский материализм, который он собирается изучать на страницах своей книги. «На самом деле, — отмечает Стерн, — еврейский материализм — это идеология, разработанная во второй половине девятнадцатого столетия евреями, страдавшими от социального гнета и жившими в ужасающей нищете».
Стерн по‑новому рассказывает о зарождении комплекса идей, которые оказались ключевыми для многих массовых движений еврейства ХХ века, — эмиграции, сионизма, социализма и даже повседневного и не связанного с общиной народного иудаизма американских евреев после Второй мировой войны. «Еврейский материализм» представляет собой не столько попытку найти новые источники, сколько анализ реального, но долгое время неверно толковавшегося характера интеллектуальных трансформаций, которые пережили русские евреи во второй половине XIX века. Я подчеркиваю, что речь идет об интеллектуальных трансформациях, поскольку, хотя автор заявляет, что книга исследует, как евреи видоизменили усилия по достижению материального благополучия и борьбе с нищетой и обездоленностью, но еврейский материализм, в том виде, в котором его понимает Стерн, как ни странно — это идеология.
Материализм, грубо определяемый как представление о том, что историю определяют физические потребности и стремления, а не идеи, имеет долгую историю в западной мысли, восходящую к греческому философу Демокриту. Под специфически «еврейским материализмом» Стерн подразумевает понимание евреями, что «приобретение необходимых средств к существованию и способность овладеть физическим миром принципиально важны для того, что они считали еврейским». Конкретнее, это была попытка определить материальное как ключевое, сущностное и — вопреки всем антисемитам — позитивное основание еврейской идентичности.
Стерн дает понять, что этот новый материализм был характерен не для евреев Запада, которые представляли собой небольшое меньшинство в либеральном обществе со свободным рынком, а для их собратьев в Восточной Европе, широких еврейских масс черты оседлости. По его словам, «в отличие от парижских и берлинских единоверцев, евреи, жившие во второй половине девятнадцатого столетия в России, были пейсатыми людьми, окруженными стеной и оторванными от крупных рынков труда и государственных должностей».
На самом деле у Стерна есть тенденция недооценивать влияние предшествующих попыток «продуктивизации» евреев Запада, то есть восстановления их отношений с природой, землей и трудом путем перевода их в неторговые сферы деятельности, в том числе ремесло и сельское хозяйство. Хотя великий прусский реформатор Христиан Вильгельм фон Дом вовсе не был лишен антиеврейских предрассудков, но в работе над трактатом «О гражданском совершенствовании евреев» (1781) он прекрасно отдавал себе отчет в масштабе еврейской нищеты. В 1782 году один из первых западных маскилим Нафтали Герц Вессели (которого, как и более поздних его единомышленников‑«просветителей» Менделя Лефина и Йосефа Перла, Стерн почему‑то вообще не упоминает) предвидел целый ряд ключевых тем позднейшего еврейского материализма, оплакивая сверхпроизводство талмудистов и вызванный им недостаток евреев, имеющих социально полезные навыки, а также презрение традиционных евреев к требованиям физической, земной реальности.
Стерн хочет подчеркнуть оппозицию, даже антагонизм, существовавшие между либеральными евреями Запада, которые хотели освободить своих единоверцев от порока материализма, и Ostjuden, которые не только приветствовали материализм как средство физического спасения, но и с гордостью видели в нем опору собственной идентичности. Но эту оппозицию легко преувеличить, и между Западом и Востоком, между идеалистами‑просветителями и практичными материалистами было гораздо больше общего. Хотя Стерн предупреждает читателя, чтобы тот не путал людей, чью историю он изучает, с приверженцами Гаскалы, на самом деле обе эти группы пересекались. Главное требование просветителей — продуктивизация еврейских занятий — повторяли практически все из тех, кого Стерн объявляет здесь материалистами.
Даже на ранних этапах Гаскалы такого рода требования влекли за собой переоценку традиционных ценностей. Поэтому, поскольку физический труд и зарабатывание денег (в отличие от изучения Торы) в восточноевропейской еврейской культуре всегда считались женским делом, материальные потребности человека представлялись женскими. Теперь развитие идеи еврейского материализма требовало сделать труд мужским делом. Поэтому Мойше‑Лейб Лилиенблюм (биография которого служит образцом перехода от маскила к материалисту) призывал еврейских молодых мужчин взять на себя задачу зарабатывания хлеба насущного, переложенную на плечи матерей, жен и дочерей. Молодой еврейский мужчина, требовал он, должен превратиться в еврейскую старуху!
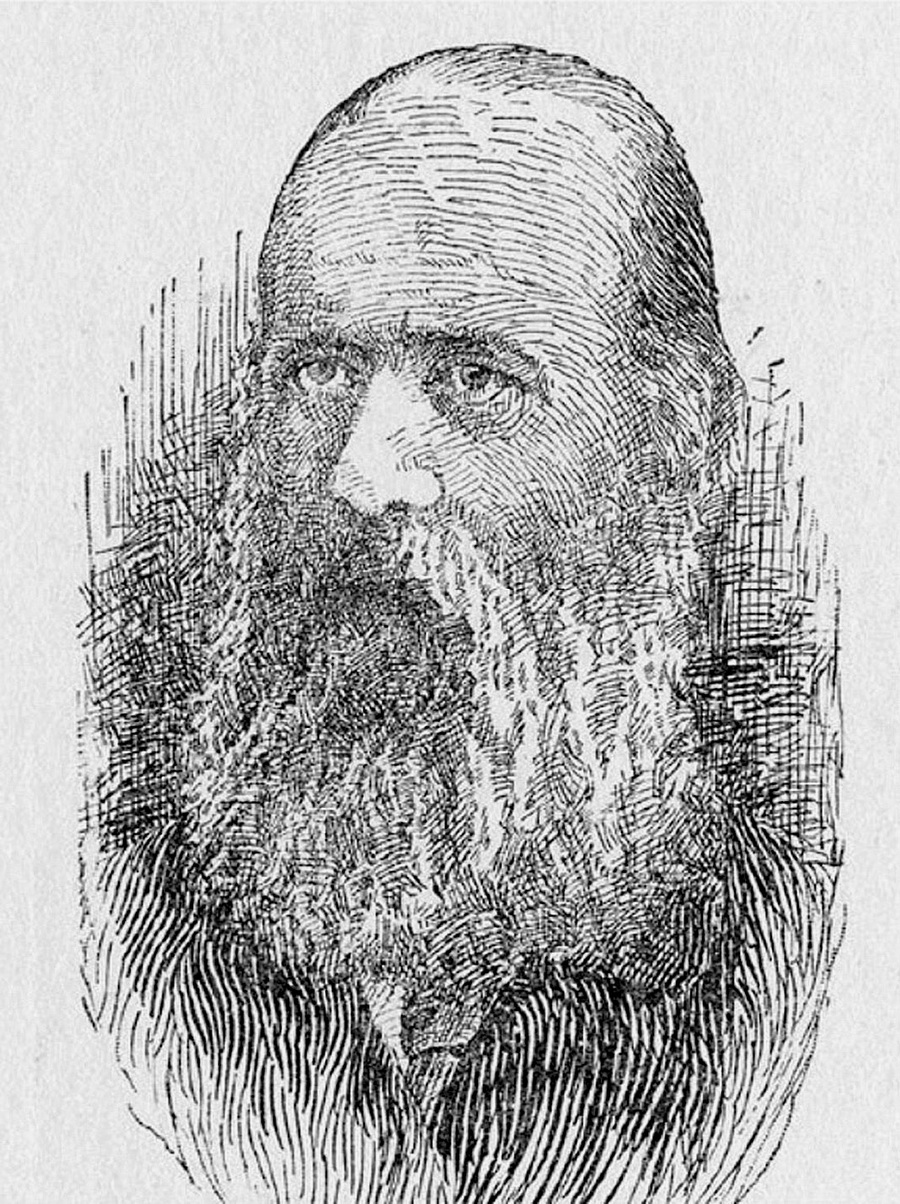
Однако Стерн тоже прав, видя в этих ранних деятелях еврейского Просвещения лишь отдаленное воздействие на движение, которое по‑настоящему набрало обороты, только когда в пределы черты оседлости стала проникать экономическая модернизация, сталкивавшая евреев все глубже в нищету и создававшая проблемы, которые не могли решить реформы царя Александра II. Как давно поняли историки, решительный сдвиг в сознании еврейской интеллигенции произошел за полтора десятилетия перед массовыми погромами в черте оседлости в 1881 году. Разочарование в решениях, предлагаемых сверху, крушение надежд на благие намерения со стороны нееврейского населения, а также распространение на восток разнообразных романтических течений — все это подготовило почву для новых теорий. Но этот сдвиг обычно трактуется в терминах возникновения еврейского национализма или даже зарождения революционного духа. Стерн впервые указывает на материализм как на ключевой концептуальный фактор. Поэтому он начинает свое повествование с рубежа 1860–1870‑х годов, периода радикализации широких слоев русской интеллигенции и первого знакомства еврейской интеллигенции с материализмом. Именно тогда впервые были переведены на иврит и идиш такие трактаты, как «История материализма» Фридриха Альберта Ланге, стало ощущаться влияние позитивистов вроде Дмитрия Писарева, писателей Тургенева и Чернышевского, а в конечном итоге и Карла Маркса.
Цель еврейских материалистов, в том числе Лилиенблюма, состояла не в том, чтобы вписаться в нееврейскую структуру занятости — им нужен был хлеб. Уход от либерального ассимиляторства происходил параллельно с отказом от предыдущих попыток религиозной реформы. Лилиенблюм, который когда‑то активно участвовал в такого рода движениях, теперь проявлял мало интереса к еврейской душе; сейчас его волновало только еврейское тело. Стерн тоже стремится показать, что растущая в 1870‑х годах популярность Маркса среди евреев вовсе не была отражением собственных путаных и сбивчивых заявлений Маркса о евреях. Наоборот, проницательно отмечает он, «еврейские материалисты вычленяли универсальные мессианские чаяния и националистические мечты, которые они видели за марксистскими теориями революции». Если бы эти русские евреи читали работу Маркса «К еврейскому вопросу», единственное, с чем бы они солидаризировались, это требование Маркса рассматривать не еврея субботы с его добавочной субботней душой, а реального еврея будней.
Не все еврейские материалисты отказывались от религиозных аспектов еврейства. Как показывает Стерн, некоторые из них видоизменяли предназначение религиозной традиции. Еврейский ученый Иосиф Сосниц к концу своей долгой интеллектуальной одиссеи придумал для себя версию иудаизма как дат хомрит, материальной веры. Аарон Шмуэль Либерман, крупнейший еврейский марксист того десятилетия, пытался сочетать каббалистические теории Ицхака Лурии и Моше Хаима Луццато с теорией божественно‑человеческого искупления, в которой искупительный тикун достигался не аскетизмом, а трудом. Стерн даже Переца Смоленскина, известного отца еврейского духовного национализма, называет в конечном итоге материалистом. По крайней мере, из рассказа Стерна ясно, что Смоленскин чувствовал себя в достаточной степени причастным к новейшим материалистическим тенденциям, чтобы признать, что хотя евреи — единственный народ, определяемый духом (Geist), но, чтобы реализовать религиозное стремление к искуплению, Израиль должен выразить себя в материальной форме, обретя собственную землю и собственный разговорный язык. Сразу после погромов 1881 года крупнейший еврейский либерал и русификатор доктор Леон Пинскер предложил свою ключевую метафору бесплотного народа, который может исцелиться, только обретя материальное тело, в котором успокоится его измученная душа. И в этом месте мы понимаем — еврейский материализм действительно одержал победу!
Авторы обоих замечательных исследований в заключениях занимаются сведением счетов. Стерн пользуется возможностью раскритиковать антиматериалистические теории либеральных евреев Запада, и особенно американские и немецкие еврейские структуры, чья филантропическая щедрость, вынужден признать Стерн, возможно, больше сделала для повышения материального благосостояния нищих евреев, чем все теории, выдвинутые идеологами из черты оседлости. Со своей стороны, Голдберг, который в четырех главах книги с академической сдержанностью перечисляет уничижительные характеристики, которыми награждали евреев гиганты социологии, в конце книги снимает перчатки, чтобы от всей души заклеймить их современных последователей. В конце концов, пишет он, «задача исторического исследования состоит не в том, чтобы изучить формы жизни, отличные от нашей <…> а восстановить забытое, чтобы освободиться от него». Справедливо. К числу современных проявлений прежнего «склада мышления», которые он хочет осудить, относятся как восточные критики сионизма, которые видят в современном Израиле отражение устаревшего сионизма, так и «западнические» тенденции отождествлять евреев с унылым неолиберальным порядком, который подрывает общинные и даже национальные ценности (спасибо Джорджу Соросу!). Как бы мы ни осуждали призраки ушедших поколений или фантомы будущих потрясений, похоже, что евреи остаются столь же умопомрачительно аномальными и в теоретическом дискурсе сегодняшнего дня.
Возможно, причина здесь состоит в том, что современные евреи сами никогда не составляли единого организма, сочетая в себе одновременно многое: Восток и Запад, богатство и бедность, предпринимательство и витание в облаках, капитализм и социализм, отсталость и прогресс. Не наследие теологии замещения — или, по крайней мере, не только оно — делает евреев идеальным объектом для теоретизирования, а ложный императив, заставляющий заключить их поразительное разнообразие в единую характеристику.
Оригинальная публикация: Workday Jews

Ленинский синтез

Основоположники об антисемитизме и евреях

