Эссе одного из самых влиятельных американских критиков своего времени Альфреда Кейзина (1915–1998) о французском философе и религиозной мыслительнице Симоне Вейль (1909–1943) первоначально было напечатано в журнале «Нью‑Йоркер», затем вошло в сборник «Сокровенный лист. Эссе об американских и европейских писателях» (Harcourt Brace Jovanovici, 1955).
В 1942 году Симоне Вейль, ученой француженке, сотрудничавшей со «Свободной Францией» в Лондоне, предложили изложить свои идеи относительно того, что можно сделать для возрождения Франции. Ее начальство относилось к этому проекту не слишком серьезно: в сущности, ее хотели чем‑то занять и отвлечь от настойчивых просьб, чтобы ее сбросили на парашюте во Францию. Задание представлялось ее практичным начальникам, наверное, немногим более странным, чем сама Симона Вейль — хрупкая, неловкая книжница, молодая преподавательница французского лицея с эксцентричной потребностью подвергнуть себя всем трудностям и лишениям, какие выпали ее поколению. Она уже подорвала здоровье работой на заводе «Рено», в сельском хозяйстве и участием в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев. Вдобавок она была еврейкой с весьма характерной внешностью, что означало неизбежный конец, если ее схватят немцы.

В начале 1943 года Симона Вейль выполнила задание, написав «Укоренение», резкий и визионерски страстный труд, в подзаголовке которого значилось: «Преамбула к декларации обязанностей человека». Это была не та книга, к которой одобрительно отнеслись бы большинство французов во время оккупации. Вейль писала с пронзительной простотой, но стояла в стороне от всех современных идеологий; она предлагала соотечественникам суровый моральный кодекс, она убеждала французов в изгнании «прежде всего <…> выбрать то, что является чистым и подлинным благом, отбросив любое соображение уместности», она доказывала, что со времен Ришелье «Государство — вещь холодная и не может быть любимо, но оно убивает и уничтожает все, что можно любить; человеку приходится любить государство, поскольку нет ничего, кроме него». В 1940 году даже эта вынужденная любовь кончилась, и воздействие этого факта на моральный дух французов стало отправной точкой ее исследования. Ее глубоко затрагивали мельчайшие детали жизни рабочих. Она писала: «…чувство справедливости у рабочих, даже если они материалисты, весьма сильно, поскольку они всегда ощущают, что лишены ее». Она одобряла монархический принцип, по крайней мере, в его раннейшей средневековой форме, поскольку он символизировал повиновение человека Б‑гу. Но ни к какому политическому лагерю она не принадлежала и, хотя считала себя христианкой, писала, что «…на деле христианство, за несколькими светлыми исключениями, представляет собой соблюдение приличий теми, кто эксплуатирует народ». В сердцевине ее книги — глубокое убеждение в том, что современный человек лишен корней, поскольку он утратил контакт с Б‑жественностью мира. В этой утрате она винит иудео‑христианскую концепцию персонифицированного Б‑га, потому что, усомнившись в существовании личного Провидения, люди утратили веру вообще и смотрели на мир как на механизм, безразличный к их надеждам и желаниям, — такой, истолковать который под силу только науке.
Этот бескомпромиссный документ, вероятно, не привлек бы особого внимания — даже во Франции его опубликовали только в 1949 году, — если бы не одна неожиданность. Через несколько месяцев после завершения книги — ей было тридцать четыре — Симона Вейль умерла в санатории от истощения и туберкулеза, ограничив потребление пищи до размеров пайка, положенного французам под оккупацией. Когда закончилась война и стали печатать ее записные книжки — первые выдержки были опубликованы ее католическими друзьями, отцом Ж.‑М. Перреном и писателем Гюставом Тибоном, с которыми она часто обсуждала свое тяготение к церкви, — множество людей во Франции и за границей признали, пусть зачастую неохотно, — исключительные качества ее личности, ее неослабную озабоченность всеми видами страдания в нашу эпоху, ее напряженные религиозные переживания под конец жизни. Теперь Симона Вейль стала легендой, ее писания считаются классическими документами нашего времени. После ее смерти изданы восемь томов, включая том ее записных книжек в неотредактированном виде, ее дневники и письма о заводской жизни.
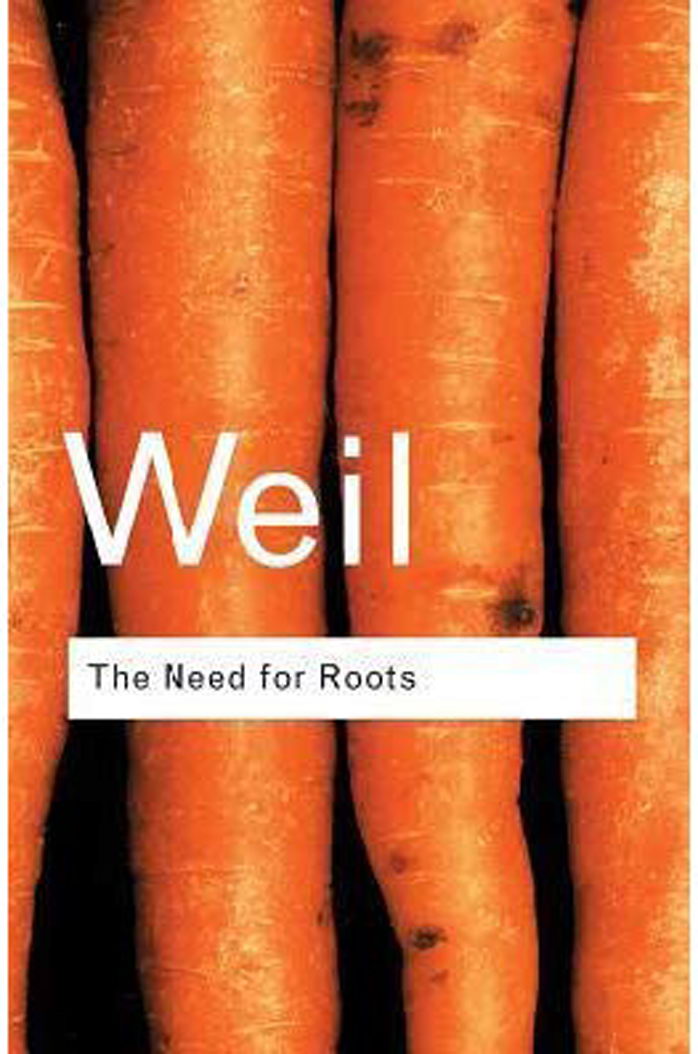
Т. С. Элиот в предисловии к «Укоренению», ее второй книге, изданной на английском (первая, «Ожидание Б‑га», вышла с гораздо более существенным предисловием Лесли Фидлера ), со сдержанным восхищением относит книгу к «той категории пролегоменов к политике, которыми политики редко интересуются и вряд ли поняли бы, как их применить». Он прибавляет без особого оптимизма: «…можно лишь надеяться, что действие этой книги скажется на умах другого поколения». Элиот аккуратно проводит различие между традиционалистским аспектом ее мышления, ее праведностью и «неумеренными утверждениями», «переизбытком темперамента» и признается, что писал «с некоторым акцентом на ее ошибках и преувеличениях <…> предполагая, что неподготовленного читателя утверждение, способное вызвать интеллектуальное недоверие или эмоциональное неприятие, может оттолкнуть от дальнейшего знакомства с этой великой душой и блестящим умом. Симона Вейль нуждается в терпении читателей, так же, как, несомненно, нуждалась в терпении друзей, ценивших ее и восхищавшихся ею».
Можно понять, почему Элиот подходит к Симоне Вейль с осторожностью епископа при встрече с Иоанном Крестителем, вопиющим в пустыне; то, что она вообще произвела впечатление на Элиота, — свидетельство ее мучительной подлинности и недавнего расширения литературных вкусов самого Элиота. Ибо, как он говорит, она была пылкой в своих «привязанностях и антипатиях» и — особенно в «Укоренении» — настолько размашистой в своих суждениях о прошлых цивилизациях, что это должно было раздражать и шокировать даже тех, кто знает о них гораздо меньше Элиота. Ей было противно все в римлянах, она преклонялась перед греками, утверждала, что самые глубокие религиозные открытия сделаны стоиками, безоговорочно восхваляла все, что нашла в египетских и санскритских писаниях, и с отвращением относилась к иудаизму, не будучи в нем осведомлена, отвергая его как нечто чуждое ее воспитанию и убеждениям, при том, что писала о нем, как еврейские пророки, требуя от человека сверхъестественного совершенства. Но никакое «терпение» на свете не поможет воспринять Симону Вейль менее «трудной, неистовой и сложной», чем она была, и предисловие Элиота не объясняет четко, чтó она должна дать нашему поколению. Он говорит, что «мы просто должны отдаться воздействию личности этой женщины, гениальность которой сродни гениальности святых». Ему близка по духу традиционалистская сторона ее мышления, но его отталкивает ее максимализм, поэтому он полагает, что мы можем усвоить некоторые ее идеи и простить остальные. Но она не тот «блестящий ум», который естественно обогатит нашу философию, и не та «великая душа», как Ганди и Альберт Швейцер, которые своим этическим примером способны вдохновить миллионы людей. Она была фанатично убежденной участницей самых критических событий нашего времени, пытавшейся проживать их в прямом контакте со сверхъестественным. Главное, чем она важна для нас, не столько в том, что она сказала, сколько в направлении ее трудов, особой перспективе, которую она стремилась обрести всем образом своей жизни. Самым важным ей виделось любовное внимание ко всему живому в мире, способное поднять человека над природным одиночеством существования.
Стремление к этому было сутью ее натуры, ее даром — не только интеллектуальным или этическим, но в высшей степени открытым всему человеческому опыту в самых крайних проявлениях брошенности, бездомья. Это оно удерживало ее перед порогом католической церкви, потому, объясняла она в «Ожидании Б‑га», что «сколько вещей остается за его [христианства] пределами, сколько вещей, которые я люблю и не хочу потерять, сколько вещей, любимых Б‑гом, ибо иначе они бы не существовали»; потому что ей причиняла боль католическая формула отлучения и заставляла ее, еврейку, бежавшую от Гитлера, возмущенно протестовать против идеи, что Б‑г мог «избрать» какой‑либо народ для какой бы то ни было цели; потому что ее оскорбляло презрение римлян к рабам, ныне вылившееся в жестокость по отношению к рабочему люду, к еретикам, заключенным, к цветным расам. Это привело ее на заводы, в охваченную гражданской войной Испанию и, наконец, когда ей не дали соединиться со своим народом в оккупированной Франции, заставило морить себя голодом в последнем отчаянном изъявления солидарности с ним.

Все самое важное в ее жизни и мысли озарено ее близостью к боли, потребностью на себе испытать невзгоды мира, пройти крестный путь. «На этом свете, — писала она в “Ожидании Б‑га”, — несчастные нуждаются, как ни в чем другом, в людях, способных отнестись к ним со вниманием… Любовь к ближнему во всей полноте заключается в том, чтобы быть способным спросить его: “Что мучает тебя?”» Внимание, считала она, «противоположно» презрению. Внимание для нее означает: «знать, что несчастный существует не просто как экземпляр в коллекции, не как единица в социальной категории под этикеткой “несчастные”, но как человек, который однажды был поражен и заклеймен ужасным клеймом несчастья. И для этого достаточно уметь (что невозможно заменить ничем другим) рассмотреть его определенным взглядом». «Внимание» было одной из главных ее тем, и ему посвящены некоторые из самых глубоких страниц «Ожидания Б‑га». «Самые драгоценные блага не надо искать. Их надо ожидать». «Как идти к Нему навстречу? Если даже мы будем идти сотни лет, наше движение окажется всего лишь вращением вокруг Земли. Даже на самолете нам не под силу сделать ничего другого. Мы не в состоянии высоко продвинуться по вертикали. Нам не дано возможности сделать и шага к небесам». Мы можем только ждать с вниманием, не ожидая никакой для себя прибыли, — вниманием, которое есть «высшая форма молитвы» и откроет нас всем скорбям пребывания в живых — но благодаря ему мы можем обрести целостное представление о вселенной, куда мы помещены.
Во Франции, когда ученик на производстве жалуется, что поранился или сильно устал, старшие отвечают ему: «Ремесло в тело входит». Эту пословицу Симона Вейль услышала на заводе «Рено» и находила ее воодушевляющей. В ней выражалось то, что мы можем достичь особой близости к миру, что истина — всегда то, что проживается. В «Укоренении» по поводу безличной, отстраненной «любви к истине» она высказывается так: «Любовь к истине — выражение неточное. Истина не является объектом любви. Она не объект. То, что любят, — это нечто существующее, о чем думают… Истина — это всегда истинность чего‑то. Истина — это озарение реальности… Желать истины — значит, желать прямого контакта с реальностью». Этот «прямой контакт» был целью ее жизни, и ее способность обрести его в самых мрачных, самых неожиданных местах была ее особым даром поколению, для которого, больше, чем для каких‑либо других, живой мир стал машиной, глухой к человеческому сердцу. 

Ханна Арендт об Эйхмане: о блеске извращенности

Ромен Гари и его многочисленные диббуки

