Известие о смерти Бесси оказалось ударом, от которого, он знал, оправишься не скоро. С того дня, когда он видел ее последний раз, прошло пятнадцать месяцев. Только теперь он понял, что она значила для него. Он в тот же вечер пошел в погребальный зал, но девушка в окне сказала:
— Она не готова, приходите завтра утром.
Он вернулся домой и начал сам с собой играть в шахматы, двигая фигуры за обе стороны. Пытался курить, но у табака был горький вкус. Он не ел с завтрака, а ему казалось, что его распирает после обильной еды. Он вытянулся на софе, не потушив света, и накрылся пальто.
— Если есть что-то «потом», — думал он, — пусть она явится передо мной сейчас. Пусть я увижу ее лицо в зеркале, услышу голос, почувствую какой-то знак ее присутствия.
Электричество горело ярко, как всегда в полночь. Телефон на ночном столике молчал. В батареях, которые еще чуть-чуть дымились, что-то булькало. Он вообразил, что слышит, как Земля вращается вокруг своей оси. В ту самую секунду, когда Земля вращается среди планет и неподвижных звезд, массы людей и животных погибают. По крайней мере, сто тысяч мужчин и женщин лежат при смерти, еще больше окажется в таком состоянии завтра и послезавтра, и через неделю.
Он прикрыл лицо шляпой, как в поезде, и отдался дремоте. Пытался думать о своих отношениях с Бесси за эти годы. Ему пришло в голову, что он никогда не мог понять их. Внешне все выглядело достаточно просто, но под их взаимной любовью таилась некоторая неприязнь. Они не могли ни оставаться вместе, ни разойтись. Постепенно оказались способны ладить только в темноте.
Как они провели свою последнюю ночь, гадал он. Откуда они знали, что она для обоих последняя? Что говорили друг другу? Какими были последние слова? К несчастью, эта ночь смешалась в памяти с другими ночами. Скорее всего, он обещал позвонить завтра, но ни разу не позвонил, как и она ему. Но в течение этих пятнадцати месяцев он думал о ней каждый день, может быть, каждый час. Не раз клал руку на трубку, готов был поднять ее, но у него хватало силы приказать себе: нет! Каждый раз, когда звонил телефон, всплывала надежда, что это она. Потом наступил день, когда позвонил ее брат и сообщил потрясающую новость.
Батареи стихли. Он пытался прислушиваться сквозь сон, но ничего не мог уловить. Видения чередовались быстро, словно в бреду. В одном из них он был на какой-то узкой улочке. Вдоль выстроились деревянные лачуги, крыши походили на детские шапочки, казалось, там живут карлики. Посреди улицы стояла кровать, устланная соломой, без белья. Он лежал на этой соломе и давал пареньку в лохмотьях, жившему в одной из лачуг, деньги, предполагая, что тот разменяет доллар и принесет девяносто центов сдачи. Но мальчишка не вернулся. «Он украл доллар», — сказал он себе, сожалея о своей доверчивости и сделанной глупости. Он также жалел себя, — что он делает здесь, на чужой кровати, на Богом забытой улице, далеко от дома, среди карликов? Все это было как-то связано с его многочисленными неудачами.
Он проснулся. Часы показывали четверть четвертого. Он проспал полночи, а видел только бессмысленные сны. Потом принял душ, побрился, надел свой лучший костюм. Накануне он послал в погребальный зал огромный венок. Ему хотелось показаться друзьям и родным Бесси богатым. Тщательно выбрал рубашку, галстук, запонки. Приготовил завтрак — не оттого, что хотелось есть, а, чтобы не выглядеть изнуренным. Сварил крепкий кофе, положил много сахару.
На улице падал крупный снег, и, хотя была суровая зима, внезапно появилась муха. Некоторое время она жужжала, билась в оконное стекло, потом приземлилась возле кусочков сахара. Она не ела, а, казалось, размышляла над ними. Время от времени скрещивала задние лапки, потом выпрямляла. Под конец опустилась на край блюдца, где была лужица кофе, и смотрела в нее, как в омут. Он внезапно подумал, что, может быть, это Бесси.
Нужно было торопиться. Он хотел увидеть ее без посторонних, пока никого не было. Погребальный зал был недалеко, но он взял такси, чтобы не входить туда с покрасневшим от мороза носом. Вскоре он стоял у окошечка.
— Четвертый этаж, — сказала та же девушка.
Он поднялся на лифте. Зал был пуст. Скоро эту пустоту заполнят люди. Он остановился перед дверью с матовыми стеклами, где была наклеена карточка — имя Бесси и время ее похорон. Ему показалось, что Бесси каким-то странным образом стала чиновником, у которого есть свой кабинет и часы работы. Он толкнул дверь и увидел гроб. Крышка была снята. Цветная лампа на потолке бросала бледный свет, мешавшийся с дневным, который просачивался сквозь окна. Они с Бесси были одни.
Ее лицо прикрывал квадратик марли. Она казалась почти живой, великолепным портретом, который художник хотел защитить от пыли. Она словно улыбалась улыбкой человека, собирающегося проснуться, наслаждающегося последними секундами уходящего сна… Волосы были причесаны, на шее — белый воротничок, как у монахинь. Узнала ли она его сквозь закрытые веки? Сердце его билось, как молоток, в висках пульсировало. Внешне он казался спокойным, но знал, что выдержки хватит ненадолго. Он совершал недозволенное, и неохотно отвел глаза. Возможно, Бесси сознает, что он, открыв ее лицо, как жених, поднимающий вуаль невесты, смотрит, завороженный и дрожащий, на нее. И он положил марлю на место, словно она — нечто священное, запретное для взгляда. Так в детстве он смотрел украдкой, как коэны благословляли общину.
Вдруг он услышал шаги, дверь открылась. Кто-то еще хотел без свидетелей взглянуть на Бесси. Он, смутившись, пронесся мимо пришедшего, а потом не знал точно, мужчина это или женщина.
Внизу ему сказали, что церемония начнется через полчаса. Он вышел на улицу, чтобы не встречаться с родными Бесси. Было холодно, он дрожал, зашел в закусочную и заказал кофе. Погрел руки о стакан, глотнул и уставился в кофе, словно ожидал найти в горячей жидкости разгадку.
Все былые ссоры с Бесси, все трения исчезли, оставив чистую любовь, некогда принадлежавшую им. Если б он только мог посмотреть на нее подольше! Он сидел в закусочной, охваченный опьянением, которое познал с первых встреч с ней. Он вновь полюбил ее, была уже не зима, а весна двенадцатилетней давности. Снежинки, падавшие снаружи, напоминали лепестки.
Но было слишком поздно. Никто теперь не причинит Бесси ни добра, ни зла. Она лежит там, наверху, как королева, не зависит ни от кого, расточая свои милости всем поровну. В шахматах любви он готов был к любому ходу противника, кроме этого. Одним движением она поставила ему мат. В морщинках у ее глаз и губ таилось выражение торжества. Он понял это лишь теперь. Она одержала полную победу. Его сердце уже не стучало, а чувствовало, как его сжимает невидимая рука. Он забыл, что можно проиграть окончательно. Он не учел той силы, которая в одну секунду стирает все мелкое и тщеславное.
Часы в кофейне показывали без пяти одиннадцать, и он вернулся в зал для похорон. В капелле собрался народ. Гроб стоял на предназначенном ему месте среди венков. Горели электрические свечи. Убрали все скамьи, кроме последнего ряда. Оглядываясь, он увидел незнакомые лица. Одна женщина всхлипывала, рыданья походили на смех. Мужчина сморкался и протирал очки. Женщины перешептывались. Это напоминало ему синагогу в день Искупления. Он сел на свободное место.
Раввин в крошечной ермолке под напомаженной копной волос гудел, произнося соответствующие библейские слова с обычными печальными интонациями:
— Он — сила, Его труды совершенны, Он — судия всего, Он — Бог истины, справедливый и не ошибающийся.
Потом кантор запел: «Бог полон милосердия».
Кантор умело перешел от убаюкивающего шепота к оглушительному крещендо, и его пение, хотя явно отрепетированное и аффектированное, затрагивало струны сердец. Горе и торжественность смешались.
Потом все поднялись и стали проходить по очереди мимо гроба, словно чтобы удостовериться, что они, живые, все еще полны любопытства и силы. Он не присоединился к процессии и вышел. Раввин, только что закончивший погребальную речь, деловито распоряжался автомобилями, которым приходилось маневрировать по узкой улице, чтобы посадить отправляющихся на кладбище. Раввин позабыл свою роль священника, сбросил маску торжественности и стал специалистом по уличному движению.
Некоторое время казалось, что его, друга Бесси, забудут, но один из родственников разглядел его в толпе скорбящих и зевак и направил на свободное место в лимузине. Он сидел один среди незнакомых. Мужчина и женщина без умолку говорили о потерянных ключах от квартиры, о досадном совпадении — ключи потерялись в воскресенье, когда невозможно найти слесаря, и пришлось вскрывать дверь электросверлом. Сообщение об этом происшествии не исчерпало темы. Всю дорогу они говорили о ключах. Прочие пассажиры рассказывали о подобных случаях, приключившихся с ними или их соседями. Он сидел, оцепенев. Зачем трудиться приходить на похороны, если у них так мало уважения к покойнице? Или наблюдать смерть — это способ забыть о ней и игнорировать ее? Такая черствость сама по себе загадочна. Он прижал лицо к окну. Хотелось отделить себя от этих людей. Автомобиль мчался сквозь дебри Бруклина, сквозь улицы, столь незнакомые, что они могли бы быть улицами Филадельфии или Чикаго. Воскресная тишина делала их еще безобразнее и заброшеннее, чем в будни.
Они ехали вдоль большого кладбища, города гробниц. Памятники напоминали лес поганок, простираясь, докуда мог видеть глаз. Там и сям среди крестов были статуи ангела — крылышки засыпаны снегом, в слепых глазах — печаль. Живые каким-то таинственным образом влили свои страхи и сожаления в камень, а сами оставались пустыми, как раковины.
Через некоторое время лимузин свернул на кладбище. Все было приготовлено заранее: открытая яма, искусственное стекло, которое даже не пыталось создать какую-то иллюзию настоящего. Женщина плакала. Кто-то произнес кадиш, читая арамейские слова, напечатанные латинским шрифтом. Для подобных случаев была специально выпущена листовка. То, что он видел, было не просто погребением, а древней жертвой, где жребий определял, кто должен быть возвращен этим мрачным зимним днем в землю. Могилу надо было закопать побыстрее, пока земля не замерзла.
Как только церемония кончилась, сразу же стали расходиться. Говорили все только об одном — как лучше добраться до города. Вопрос возвращения стал теперь главным, мужчины и женщины состязались друг с другом, показывая свое знание кратчайших путей, тоннелей и мостов.
Он не вернулся в лимузин, а решил добираться сам, поискать автобус или подземку. Он порвал с теми, кто ехал в кадиллаке с важным шофером. Кто-то должен чувствовать, что Бесси лежит сейчас под землей, и мириады микробов начинают разрушать ее плоть и обращать в элементы. Остались ли в ее мозгу какие-нибудь следы мыслей? Исчезла ли ее душа совершенно, и там лишь абсолютная мгла? Если так, Бесси даже не умерла, — она просто исчезла. Это, в сущности, не ее, а его похороны, подумал он. Он содрогнулся и поднял воротник, пробираясь сквозь снег и слякоть. Поднял глаза к небу — может быть, оттуда подадут знак. Может быть, Божественные силы сделают исключение. Но облака над ним были коричневы, как ржавчина. Ветер сорвал было шапку, но в последний момент он поймал ее. Владыка вселенной или Его помощник, назначенный управлять этой незначительной планетой, явно не собирался ниспослать откровение. Он шлепал по улице, среди гаражей, незаселенных домов и пустырей. Прозвучал сигнал. Он повернулся и увидел, что из автомобиля высунулся человек, который полувопросительно сказал:
— Вы были на похоронах, хотите вернуться в город?
— Да.
— Садитесь.
Он сел и поблагодарил незнакомца. Только теперь он посмотрел на него и увидел, что тот пожилой, но крепкий, широкоплечий. Седые курчавые волосы, красное лицо, широкий нос. В толстых губах сигара. Глаза серые под мохнатыми бровями. На незнакомце было модное желтое пальто, какие носят старики, желающие казаться моложе, на голове лихо сидела шляпа с красным пером. Даже правил он, стараясь казаться молодым, — развалился на сиденье, небрежно держа руль одной рукой, непринужденно, как водитель, способный справиться с любой неожиданностью. Он ехал и разговаривал с пассажиром, беззаботно повернувшись в профиль.
— Ну, больше ее с нами нет, — сказал он и пассажиру, и себе.
— Да.
— Замечательная женщина. Мало таких, как она, — и он, чуть не наехав на прохожего, нажал рожок.
Некоторое время длилось угрюмое молчание. Потом незнакомец сказал:
— Я вас знаю. То есть не лично, но Бесси все о вас рассказала. Она показывала мне ваше фото. Поэтому я узнал вас.
— Вы родственник?
— Нет, вряд ли. Мы познакомились год назад, и это сразу обратилось, так сказать, в дружбу. Она ничего не скрывала, сказала все, что мне следовало знать, и я уважал ее за это. Что толку обманывать? Никто не ожидает, чтобы женщина ее лет была девственницей.
Он резко затормозил у светофора. Оба молчали. Потом водитель снова начал:
— Что между вами произошло? Почему вы не поженились? Но я сказал бы, что это судьба. Вопреки судьбе нельзя ничего сделать. Я хотел, чтобы она пришла к какому-то решению. Я, понимаете, не богат, но устроил бы ей хорошую жизнь. Обе мои дочери замужем. У меня есть недвижимость. Я строю бунгало. Если б захотел, ушел бы на покой. Я предлагал увезти ее в Европу, в Израиль. Куда она хочет. Зятьям не нужны мои деньги, и с собой их не возьмешь, так какого черта копить и сквалыжничать? Но она все откладывала и откладывала. Эй, куда вы лезете? — внезапно крикнул он прохожему. — Чертова деревенщина!
Помолчал немного.
— Вы курите? Я выкуриваю по десять сигар в день. Доктора говорят, что в моем возрасте это плохо, но в одном я уверен — молодым я уже не умру. А пока жив, хочу наслаждаться жизнью. На той стороне будет уже поздно. Да, сэр, похоже на то, что у нас с Бесси было бы неплохо, если бы не затесался другой.
— Другой?
— Этот тип Леви. Она вам не говорила? Мне казалось, что вы остались друзьями.
— Нет, не говорила.
— Да, дантист. Никогда не пойму, что она в нем нашла, но что мы, мужчины, знаем о вкусах женщин? Он интересно рассказывает, ходит на концерты в Карнеги-холл. Он также большая шишка у сионистов, или как там их. Как только я услышал о нем, я ее предостерег. Она познакомила нас и спросила мое мнение. Я такой парень — если человек мне нравится, я так и говорю. Я и в бизнесе люблю откровенность. Человек может быть моим главным соперником, но если у него хорошо получилось, я первый это признаю. Но этот тип не понравился мне, и я сказал ей:
— Делай, что хочешь, мы останемся друзьями. — И с того времени она начала скатываться под гору. Я звонил ей несколько раз, но она в ответ — ни разу. Я водил ее в театр и в ресторан, я готов был забыть и простить, но она была гордой. Слишком гордой. Она сказала:
«Сэм, для меня все кончено».
«Почему кончено?» — спросил я.
«Если меня не уважают другие, — сказала она, — мне плевать. Но если я сама себя не уважаю, это конец».
Случилось вот что: этот гаденыш, дантист, вернулся к своей жене, потому что у той умер отец и оставил ей кучу. Я обнаружил, что, пока он крутил с Бесси, у него была любовница, некая миссис Ротстейн, разведенка. Он из тех, что прыгают от женщины к женщине и думают, что обманули весь мир. Что она в нем увидела? Это не была любовь — любила она только вас. Но есть такая штука, как самолюбие. Особенно у женщин. Куда он едет, этот вахлак? Почему таким типам разрешают водить? Да, самолюбие. Она собиралась выйти замуж, и он ей, как говорится, втирал очки. Вы не видели ее в последние месяцы?
— Нет.
— Ну, она была разбита. Совершенно разбита. Хорошая женщина, благородная женщина. Как это вы ей не звонили?
— Так вот получилось.
— Понимаю. Я знаю, как это бывает. Он тоже был сегодня на похоронах, этот маленький зубодер. Сидел прямо в первом ряду и держался, как главный плакальщик. Пытался произнести над телом речь, но ее брат не позволил. Может быть, вы пообедаете со мной? Я знаю ресторан поблизости…
— Нет, спасибо. Но если вы голодны…
— Спасибо, я не голоден. И даже будь я голоден, что из этого? Я слишком толстый. Доктор велел мне сбросить десять килограмм. Ну, а как сбросить десять килтграмм? Вы не поверите, но мне под семьдесят. О чем мне беспокоиться? Но ее смерть — страшная потеря для меня, страшная. А как вы? Вы одиноки?
— Да. Одинок.
— Ну, как говорится, у каждого свои заботы. Что можно знать о другом? Ничего. Совершенно ничего. Меньше, чем ничего.
И он погрузился в молчание. Опустил голову, сгорбился, словно внезапно ощутив тяжесть лет. Автомобиль, казалось, ехал под гору. Быстро опустилась тьма, словно на небе прикрутили фитиль. Оно стало желтым, как старая парусина. Было тихо. Снова пошел снег, серый, плотный и влажный, поглощающий свет дня, обращающий все в первобытные сумерки.
(Опубликовано в газете «Еврейское слово», № 34)
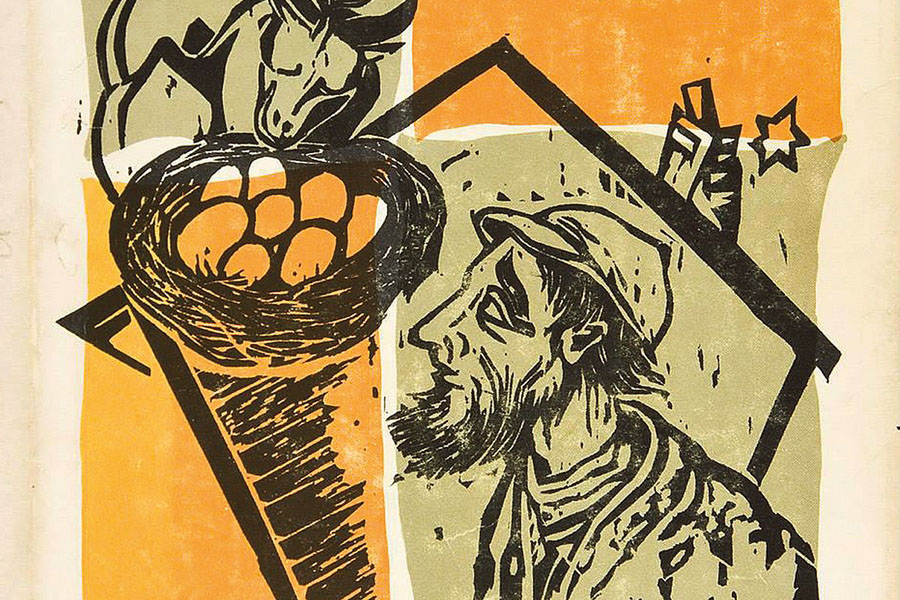
Святой как шлемиль

Los Angeles Review of Books: Вера в место: Исаак Башевис Зингер в Израиле


