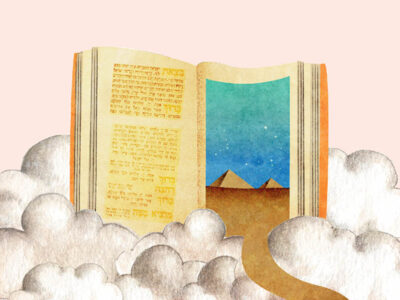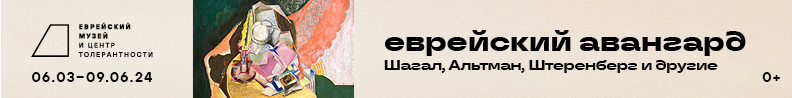Пять книг о празднике Песах и его атрибутах
[parts style=”clear:both;text-align:center”]
[phead] [/phead]
[/phead]
[part]
Агада для пятого сына
Пасхальная агада. Путеводитель по празднику Песах (М.–Нью-Йорк, 2008)
Любавичский Ребе некогда сделал интересное наблюдение, что в нынешние времена помимо четырех сыновей, представленных в Пасхальной агаде, — мудреца, злодея, простака и не умеющего спрашивать — существует и пятый, который вообще отсутствует на седере, аллегория ассимилированного еврейства, прочно забывшего традицию. Данное издание предназначено как раз для таких пятых сыновей в советском варианте, измученных не вопросами о пасхальной ночи, а пятой графой в паспорте, однако со сменой режима получивших счастливую возможность поменять приоритеты и «выйти из Египта», то есть получить духовное освобождение и обрести культурно-религиозное наследие.
Пятисотстраничный том состоит из двух частей. Вторая — это собственно агада с билингвальным литургическим текстом и подробными рекомендациями на русском, сопровождающимися разнообразными ремарками о пасхальных обычаях хасидов Хабада: когда в Любавичах наливали бокал пророка Элияу, как любавичские цадики комментировали десять казней, смысл разливов Нила или тяжесть еврейского рабского труда, каким пальцем Ребе размешивал харосет и пр. Первая часть — путеводитель по празднику — содержит как вполне практические советы, данные в коротеньких главках (кому продавать и как уничтожать хамец, как организовать седер в общине, какие требования предъявлять к маце и к вину), так и три пространных текста, авторы которых почему-то стыдливо указаны лишь в конце книги, на служебной полосе: один представляет собой фундированное, со ссылками на разные научные мнения, изложение истории текста Пасхальной агады, два других — несколько сумбурные пасхальные проповеди, где затрагивается и тема детей, и значение Песаха как противоядия против ассимиляции, и происхождение тех или иных элементов седера, и многое другое.
При некоторой эклектичности справочно-теоретической части и недостаточной нарядности части литургической (немелованная бумага, мелкие черно-белые иллюстрации), это самое информативное на русском языке руководство по празднику Исхода — для самых дотошных экс-пятых сыновей.
[/part]
[phead]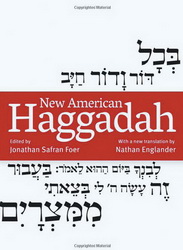 [/phead]
[/phead]
[part]
Агада с претензией
The New American Haggadah, edited by Jonathan Safran Foer, with a new translation by Nathan Englander (New York, 2012)
Амбициозный замысел успешного ловца востребованных тем Джонатана Фоера, высказавшегося уже и о Холокосте, и о вегетарианстве, состоял в том, чтобы создать «новую» Пасхальную агаду, которая заменит старые и несовершенные в каждом американском еврейском (интеллигентном) доме. В сопутствующих выходу книги колонках и интервью Фоер вспоминает, что его родители пользовались миксом из ксероксов разных агад, каждая из которых в целости своей считалась чем-то неудовлетворительной, тот или иной текст называли хорошим по сравнению с другими агадами — но не по сравнению с английской художественной литературой. И Фоер задался вопросом: почему нужно довольствоваться суррогатами, почему бы не написать действительно хороший с литературной точки зрения текст Пасхальной агады?
Переводить с иврита и арамейского взялся писатель Натан Ингландер. Несколько еврейско-американских литераторов написали комментарии: Ребекка Гольдштейн — о Спинозе за пасхальным столом, Джеффри Голдберг — о десятой казни египетской, Натаниел Дейч — о теологии Исхода, Дэниел Хендлер — о четырех типах не сыновей, а родителей. Комментарии эти призваны не столько служить самостоятельной и самодостаточной экзегезой, сколько дать толчок к дискуссиям за пасхальным столом — столом, скорее, не ортодоксальным, а ассимилированным, где не помнят в деталях книгу Исход, не разбираются в тонкостях пасхальной литургии и ритуалов седера, но твердо чувствуют свою связь со всем этим. Такое отчасти парадоксальное ощущение связи Фоер хорошо сформулировал в диалоге с ребенком, спросившим, существовал ли Моисей в действительности: «Я не знаю, существовал ли, но мы его родственники».
Однако, как утверждают оба составителя, агада получилась гораздо более традиционной, чем они ожидали, а как отмечают критики, это равнозначно провалу затеи: «Новая американская агада» вышла не новой и не особенно американской; Фоер боролся с агадой, как Иаков с ангелом, и агада опять победила; как будто вы взялись перестраивать старый фамильный дом и новое здание, к вашему собственному удивлению, оказалось точной копией снесенного…
Каково бы ни было исполнение, сама идея — соединить классический текст с хорошо написанными и актуальными комментариями известных современных авторов — кажется плодотворной, с одной стороны; с другой же, такая агада — книга, скорее, одноразовая, если только комментарии в своей поэтичности не сравняются с основным текстом, или, например, ежегодная. Проект «Пасхальная агада как периодическое издание» — тоже вариант.
[/part]
[phead]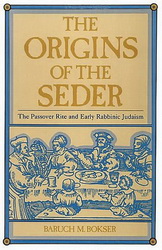 [/phead]
[/phead]
[part]
«И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день»
Baruch M. Bokser
The Origins of the Seder: The Passover Rite and Early Rabbinic Judaism (Berkeley–Los Angeles–London, 1984)
Пасхальный седер — одно из наиболее плодотворных изобретений раввинистического иудаизма, ставящего себе задачу заменить — после разрушения Второго храма — храмовое служение и его атрибуты другими ритуалами и практиками. В отсутствие жертвоприношения и священства пасхальная жертва становится символической, а роль коенов выполняют лаики. Седер включает в себя основные раввинистические институты — молитвы, благословения, учения. Он демократичен — доступен всем, не только иерусалимской аристократии или интеллектуальной элите. Седер утверждает новое представление о внехрамовой святости, о том, что Б-жественного присутствия может сподобиться любое благочестивое еврейское собрание. При этом он соединяет в себе несколько концепций трапезы: еврейскую религиозную застольную церемонию, с благословениями и молитвами, и греческий пир с интеллектуальными беседами и спорами. Наконец, седер учит евреев диалектике рабства и свободы, вселяющей веру в мессианское будущее и укрепляющей благодарность Б-гу за прошлые избавления. Неудивительно, что седер стал самым популярным ритуалом иудаизма, предметом соблюдения даже у вполне секулярных евреев. Седер со своим центральным месседжем — «в каждом поколении почувствовать себя выходящим из Египта» — вовлекает своих участников, сколь угодно ассимилированных, в еврейскую историю и иудейскую парадигму изгнания-избавления.
Монография Баруха Боксера рассматривает становление концепции и ритуала седера в раннераввинистическую эпоху, когда из дохрамовой библейской модели (Шмот, 12), трансформации храмового ритуала и эллинистических образцов был получен базовый комплект пасхального седера (Мишна, Псахим, 10), который потом, в течение столетий, будет еще обогащаться дополнительными текстами и ритуалами.
[/part]
[phead]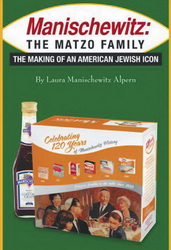 [/phead]
[/phead]
[part]
История появления «самой кошерной мацы в мире»
Laura Manischewitz Alpern
Manischewitz: The Matzo Family: the Making of an American Jewish Icon (Jersey City, NJ, 2008)
Success-story компании «Манишевич», крупнейшего американского производителя кошерных продуктов, началась с того, что иммигрант из Литвы Дов-Бер Манишевич значительно улучшил появившуюся в середине XIX века технологию частично машинной выпечки мацы, а его сын Джейкоб механизировал весь процесс, вследствие чего фабрика Манишевичей стала главным изготовителем мацы в мире и произвела революцию в мацепечении: из круглой или овальной и уникальной в каждом экземпляре маца стала квадратной и стандартной на вид и на вкус и из локального продукта, выпекаемого в каждой общине, превратилась в легко транспортируемый национальный и даже экспортируемый товар. И хотя механизация выпечки мацы вызывала яростные алахические дискуссии и неприятие ряда раввинов, Манишевичи заручились поддержкой более чем сотни видных авторитетов того времени, включая Меира Шапиро и Авраама Кука.
Лора Манишевич Алперн, сама член семьи, в беллетризованной форме рассказывает историю основателей династии «мацовых королей», структурируя ее в соответствии с пасхальным нарративом и ритуальным порядком седера: от «Из Египта», «В пустыне», «Рукою сильной» до «Афикомана».
[/part]
[phead]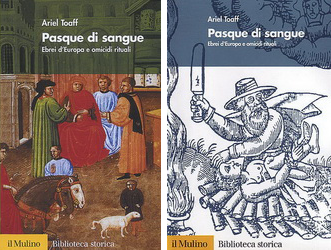 [/phead]
[/phead]
[part]
Пасхальные контроверзы
Ariel Toaff
Pasque di sangue. Ebrei d’Europa e omicidi rituali (Bologna, 2007; 2008)
С праздником Песах, исторически и календарно близким христианской Пасхе, с мацой и вином, как известно, связан многовековой трагический сюжет в еврейской истории — кровавый навет. Ариэль Тоафф, профессор средневековой и ренессансной истории израильского Университета Бар-Илан, автор вполне конвенциональных книг типа микроисторического исследования «Евреи в средневековом Ассизи» или культурологического «Еврейская кухня в Италии», в 2007 году разразился чрезвычайно провокационной книгой «Кровавые Пасхи: европейские евреи и ритуальное убийство». Тоафф идет гораздо дальше своего концептуального предшественника Исраэля Юваля, исследовавшего текстуально и ритуально отрабатываемую ненависть ашкеназов к своим христианским соседям, и обнаруживает у средневековых евреев вполне криминальные действия — тем самым на первый взгляд опровергая аксиоматическое положение: кровавый навет — это навет, то есть неправда. Во втором, исправленном, издании книги (тираж первого после разразившегося скандала автору пришлось отозвать) Тоафф четко заявляет: «У меня нет сомнений в том, что ритуальное убийство и убийство детей принадлежат к сфере мифа, у еврейских общин в германских землях и севера Италии не было таких ритуалов». В то же время он не исключает возможности того, что «отдельные преступления под маской жестоких ритуалов совершались экстремистски настроенными группами или одиночками, жаждавшими мести тем, кого они считали ответственными за беды и трагедии своего народа». Главная методологическая проблема состоит в том, что единственный тип источников, подкрепляющий эти предположения, — это признания, полученные под пытками.
Впрочем, скандальная гипотеза оказывается лишь побочным продуктом основной задачи книги — исследования «культуры крови», ее медицинского, магического, алхимического и иного использования в ашкеназских общинах, попирающего библейские и раввинистические запреты, исследования того, как народные практики и верования, вдохновляемые глубинной враждебностью к соседям, модифицировали алахическую норму и влияли на модус вивенди евреев в христианской Европе.
Изучив богатую документацию дела о ритуальном убийстве Симонино Трентского (1475) в сопоставлении с еврейскими источниками, Тоафф пришел к такому выводу: ашкеназские радикалы, число которых, впрочем, трудно установить, на седере анафематствовали христиан и полагали, что их анафема обретает особую магическую силу от добавления в пасхальное вино высушенной христианской крови, полученной, важно заметить, путем не криминальным, хотя и нелегальным — купленной у добровольных доноров.
Можно себе представить реакцию еврейского мира на это заявление, но Тоафф, уже заклейменный опасным предателем, льющим воду на мельницу антисемитизма, и безответственным шарлатаном, жадным до легкой славы (отчасти по принципу «я Пастернака не читал, но осуждаю», поскольку книга вышла на итальянском, доступном отнюдь не всем критикам), по-прежнему утверждает, что отношение к еврейской истории как священной корове и изображение еврейства в апологетически розовых тонах ошибочно и порочно, а отход от нарратива «юдоли плача» и добавление к позитивным аспектам контроверсивных лишь укрепит еврейскую идентичность.
[/part]
[/parts]
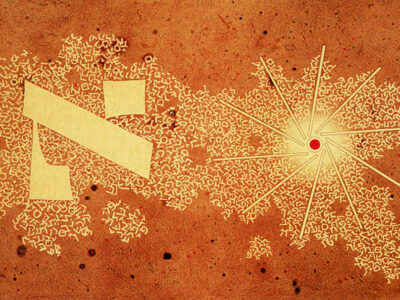
Происхождение букв и чисел согласно «Сефер Йецира»
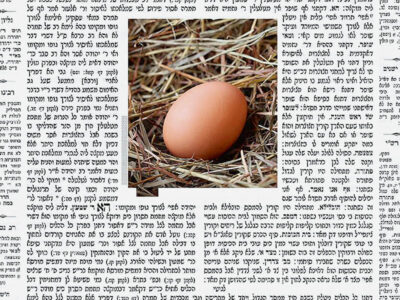
Что было раньше: курица, яйцо или Б‑жественный закон, регламентирующий их использование?