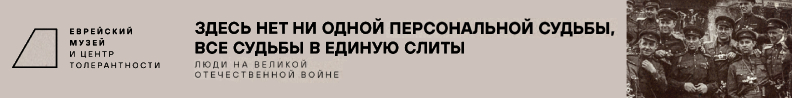Марк Куповецкий: «Я как был романтиком, так и остался»
В издательстве «Книжники» вышла книга Галины Зелениной «Иудаика два: ренессанс в лицах», состоящая из биографических интервью с учеными, просветителями и культуртрегерами — деятелями «второго издания» российской «еврейской науки». Некоторые из этих интервью (с М. Крутиковым, В. Дымшицем, И. Дворкиным, С. Якерсоном, О. Будницким, М. Членовым) в сокращенном варианте уже публиковались в журнале. Сейчас мы предлагаем вниманию читателей краткую версию интервью с Марком Семеновичем Куповецким — демографом, историком, директором Центра библеистики и иудаики РГГУ.

Марк Куповецкий на презентации книги «Документы по истории и культуре евреев в архивах Санкт‑Петербурга: Путеводитель». Конференция «Сэфер». Фото Николая Бусыгина
То, что я еврей, я узнал практически сызмальства, и это для меня всегда было само собой разумеющееся. Мое раннее детство прошло в коммунальной квартире в Большом Тишинском переулке.
Эпизод, который сыграл определяющую роль во всей моей дальнейшей биографии, произошел в 1968 году. Мне 12 лет, седьмой класс, нам задали сочинение на вольную тему. И я написал о вкладе евреев в мировую культуру. Я вообще сочинения писал на пятерки. Преподаватель литературы — она же завуч нашей школы — ко мне очень хорошо относилась. Но тут, когда она объявляла всем оценки, моя фамилия не прозвучала. Мне было только сказано: «Куповецкий, а ты останься». Когда я подошел, она сказала: «Ты знаешь, я не могу оценить твое сочинение. Тебе надо его переписать». Я заартачился, сказал: «А почему?» Она не стала отвечать на этот вопрос, сказала: «Знаешь что? Зайди с мамой».
Вечером стал я об этом рассказывать маме, и ее первой реакцией, как у любой советской еврейской мамы, было: «Напиши, что они там хотят, и не связывайся. Зачем тебе это надо? Напиши лучше об образе какого‑нибудь Базарова». На мое счастье, папа в этот день пришел раньше, чем всегда, услышал краем уха этот разговор и сказал: «Я пойду». В школе он до этого не был ни разу и после этого ни разу не был.
Мы пришли. Учительница очень доброжелательно была настроена, заявив: «К сожалению, я не могу оценить это сочинение, поскольку там присутствуют такие выражения, как “еврейский народ”, а согласно классикам марксизма‑ленинизма, нет такого народа». Она говорила достаточно мягко, желая помочь и мне, и себе. Но папа мой не собирался с ней дискутировать. Он немногословный был человек и довольно жесткий. Он сказал примерно следующее: «Вы знаете, давайте так. Вот стою я, и рядом стоит мой сын. Независимо от того, что по этому поводу пишут классики, мы есть. Мы еврейский народ, это реальность. Поэтому мой сын абсолютно прав». Беседа продолжалась еще минуту и закончилась. Учительница сказала, что не будет оценивать это сочинение. На этом инцидент был исчерпан, но произвел на меня колоссальное впечатление.
Классе в четвертом один из моих одноклассников сказал мне слово «жид». Я рассказал дома, мама посоветовала не обращать внимания, а папа сказал как отрезал: «Только слышишь это слово, вообще не отвечай ничего — сразу бей. Причем бей до крови. Будет один — ничего. Будет двое, трое — все равно бей. Главное, сразу. И тогда остальные побегут». Я так и сделал, когда он в следующий раз назвал меня жидом. Все лицо ему расквасил — был сплошной синяк.
У меня с самого детства была и остается позитивная еврейская идентичность. И это от родителей. Папа у меня был «гордый» еврей — дитя московских послевоенных дворов. Человек кое‑что повидавший. На самом деле, я думаю, тогда таких, как папа, «гордых» евреев было не так уж мало. Подавляющее большинство людей такого рода уехало еще в 1970–1980‑х.
«Я играл на расческе и кайф ловил неимоверный»
С двенадцати лет я отдыхал в Пярну — с бабушкой или с мамой. А Пярну был такой Коктебель на Балтике, очень интересное место, куда съезжались московские и питерские евреи в большом количестве.
И я стал ходить на Горку
Молодежь приходила с гитарами, магнитофонами. Пели песни на иврите, реже — на идише и русском. Я там приспособился играть на расческе, обтянутой целлофаном.
Милиция и дружинники там тоже находились в большом количестве.
Притом что я ходил на Горку, никаких религиозных сантиментов у меня не было — только национальные. Моя ярко выраженная позитивная еврейская идентичность была всегда абсолютно секулярная. Я в этом смысле оказался последователен до сих пор. Я это воспринял от бабушки и родителей, они в синагогу никогда не ходили, разве что за мацой. Папу и в Израиле — после их с мамой репатриации в 1992 году — более всего не устраивало, как он выражался, «религиозное засилье».
«Ходил в Историчку каждый день, наконспектировал сорок общих тетрадей»
Уезжали мои друзья — не все, конечно, но многие. И в 1978 году я подал на выезд. Полтора года ждал ответа, и только в 1979‑м мне дали отказ. На работу меня после этого не брали, и я к тому моменту уже, разумеется, не учился, потому что студента, который подавал на выезд, либо все равно исключали — запрещали ходить на военную кафедру и отчисляли за неуспеваемость по военной подготовке, либо он уходил сам. Так было в моем случае — я подал заявление: «Прошу отчислить меня из числа студентов по собственному желанию». Я тогда был не один: в 1979 году из СССР уехало 50 тысяч. Это был самый пик эмиграции перед Афганистаном.
С работой было очень сложно. Меня не брали в собственном доме грузчиком в магазин «Овощи‑фрукты». Кадровик смотрел: по собственному желанию отчислен из института, полтора года нигде не работает — и все понимал. «Вы нам не подходите». Зато я запоем читал книжки в Историчке и в ИНИОНе. Так и сидел там до середины 1980‑х и приобрел за этот период основную массу своих знаний. Такой кайф получал! Еще в начале 1980‑х через своего друга Игоря Котлера я купил в питерском букинистическом магазине дореволюционный библиографический указатель литературы о евреях на русском языке, по нему и шпарил.
С Котлером я познакомился в 1976 году в Коктебеле. Его приятель по фамилии Мушкин сидел на берегу и держал в руках развернутую газету Компартии Израиля на иврите «Зо а‑дерех», причем держал ее вверх ногами. Сидел он так, и к нему еврейцы, которые видели, с какой графикой газета, подползали. Подполз и я. Так я познакомился с Игорем Котлером и в его лице впервые встретил человека, который более или менее что‑то знал о еврейской истории и культуре. Сам я к тому времени уже много чего начитал — три тома энциклопедии, Дубнова. И мы с Котлером друг друга подпитывали знаниями. Оказалось, что его возможности значительно больше. В Ленинграде в букинистических магазинах и принимали, и продавали дореволюционные книги по истории, в том числе еврейской. В Москве этого купить было нельзя. Он мне звонил: «Дубнов есть за 25 рублей». Я говорю: «Бери!» А он тоже был из семьи достаточно состоятельной — у него мама была зубной врач, и мы могли покупать многое — и он, и я.
Меня интересовало все, что связано с демографической историей евреев. Я читал дореволюционные работы по статистике еврейского населения Российской империи, по социальной истории евреев, очень интересовался разного рода еврейскими экзотическими группами на территории СССР. С точки зрения прочитанной дореволюционной литературы я был подкован значительно лучше, чем все мои будущие коллеги по Историко‑этнографической комиссии. Всю Еврейскую энциклопедию я прочитал от корки до корки уже в начале 1980‑х. Я конспектировал все, что читал, и наконспектировал к настоящему времени около сорока общих тетрадей по 96 листов. А уже в 1980 году сделал такой историко‑демографический справочник по каждой стране, страниц на 120: когда евреи появились в данной стране, сколько их было и так далее. Это, конечно, компиляция, но я ею очень гордился, это была первая моя работа.
К этому времени я уже своих друзей просвещал. Тогда наши тусовки заключались в том, что я им говорил: «Сегодня я вам буду рассказывать об этом». И вещал. Про евреев. Но только ни про какой не антисемитизм. Антисемитизм как сейчас меня не интересует, так и тогда не интересовал.
Меня всегда интересовали экзоты, и поэтому я увлекся восточными евреями и пытался совместить знание демографии и интерес к экзотическим еврейским группам. Первой такой попыткой стала как раз моя первая статья «Динамика численности и расселение караимов и крымчаков за последние двести лет», вышедшая в 1983 году.
Мы с Котлером отличались от всех остальных в Еврейской историко‑этнографической комиссии тем, что у нас были деньги свои собственные, точнее, родительские. И на деньги моего папы и его мамы мы ездили на Кавказ, в Среднюю Азию, ездил я и к герам в Сибирь и Армению. Крупник с Членовым нам давали какие‑то ценные указания, как вести полевую этнографическую работу. Попытки Котлера поездить и пообщаться с ашкеназами в Белоруссии были удручающие. Народ был в несознанке полнейшей. Они боялись вообще что‑либо говорить. То же самое на Украине: я был в Киеве и пытался там поговорить с какими‑то знакомыми, но как только я задавал вопрос, глаза у них становились такие, что мне противно было с ними иметь дело. И восточные евреи поначалу нравились мне именно потому, что они — в отличие от ашкеназов — абсолютно не стеснялись своего еврейства. И потом, они явно сохраняли общинную организацию. Я видел, что здесь это уходит, а мне была интересна социальная составляющая. Личности еврейской истории меня не интересовали — меня интересовала демография и социальная история. И, например, в статье 1989 года «К этнической истории крымчаков» я попытался проследить эволюцию их общинной структуры и лидерской группы. Всего этого ашкеназы мне дать не могли.
«Был золотой век, а сейчас — бронзовый»
Я — счастливый человек, занимался всю жизнь тем, что мне интересно, кое‑чего добился и профессионально. И еще какую‑то часть жизни мне за это платили деньги.
Самые счастливые для меня годы — это 1980‑е. Золотой век — период с 1981‑го по 1986‑й, пока Историко‑этнографическая комиссия активно работала. Мы встречались иногда по нескольку раз в месяц. И интеллектуального общения такого уровня и такой интенсивности, как там, у меня больше никогда не было.
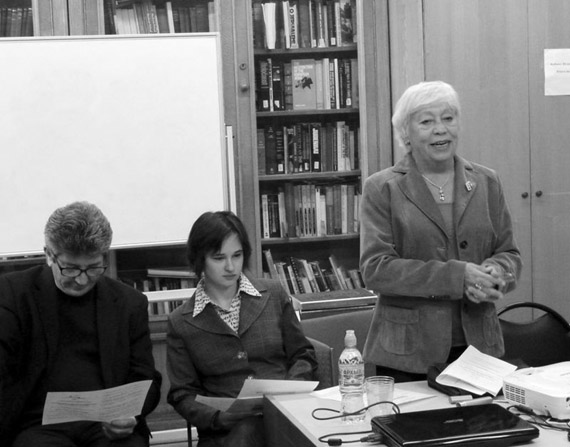
Марк Куповецкий, Наталья Киреева, Наталия Басовская. Третья всероссийская студенческая конференция по иудаике в рамках «Дней студенческой науки РГГУ». 14 декабря 2010. Центр библеистики и иудаики
А дальше, во второй половине нулевых, постепенно наступил бронзовый век. Дело в том, что социальный контекст развития российской иудаики к этому времени заметно изменился. Мы несколько лет назад говорили с Геннадием Эстрайхом о том, что мы из народа, которого уже нет. Советского еврейского народа в современной России практически не осталось. Если здесь и будут евреи в значимом числе, это будут уже совсем другие евреи.
В последнее десятилетие я четко осознал, что то, частью чего я себя мыслил всю сознательную жизнь, здесь заканчивается. Еврейская идентичность стремительно меняется, включая ценностные ориентиры и символику. Тот мир, в котором я вырос, окончательно ушел. Для большинства тех, кто мыслит себя как еврей в России, все более важна иудейская религиозная составляющая. Для меня же с моей этнической идентичностью она как была маловажной, таковой и остается.
В российской иудаике я застал и то счастливое время — 1990–2000‑е, когда был интенсивный социальный запрос со стороны не только участников национального возрождения и вообще евреев, но и со стороны всего российского общества в целом. Слушать лекции нередко приходили сотни людей. А в последние годы наблюдается та же картина, что и на Западе, и в Израиле. Иудаика — одна из областей гуманитарного знания, которая привлекательна для немногих и должна влачить то жалкое существование, которое характерно для гуманитарного знания в условиях рыночной экономики. Удел «сумасшедших». И это нормально. В конце концов, любой исследователь пишет прежде всего для себя и — в лучшем случае — для горстки коллег.
Публикация подготовлена в рамках проекта Российского научного фонда №15-18-00143
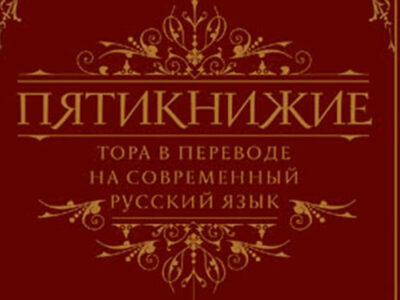
О переводе еврейских источников на русский язык

Наши женщины к Б‑гу ближе