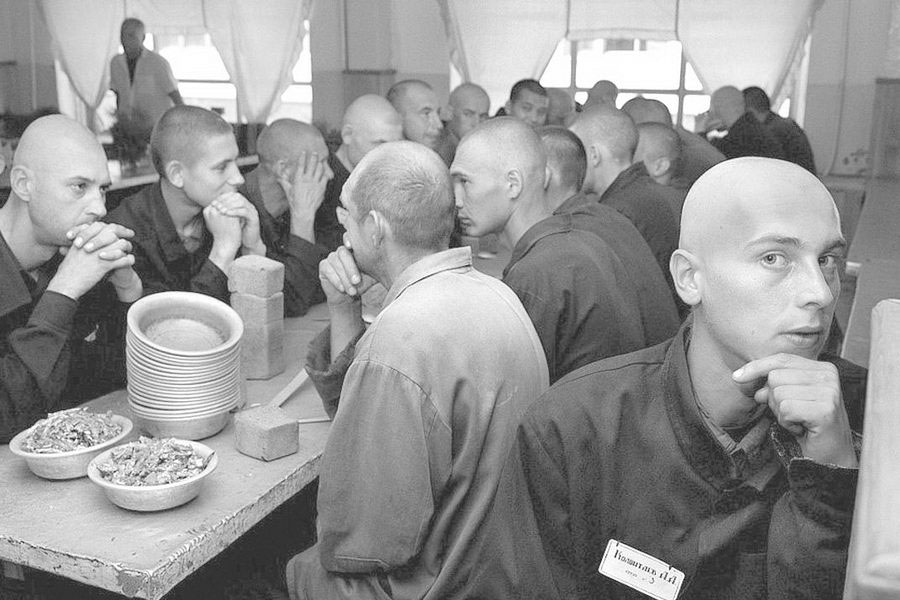Парадокс Макаренко
Голова болела с похмелья. Не то чтобы раскалывалась, но болела. Вчера перебрали с Вадиком. В другой день я бы не огорчался, но сегодня — экзамен по высшей математике, первый в сессии, а я и не готовился совсем. Так, надеялся сдать на тройку.
В школе математика и физика были моими любимыми предметами. Я уважал их за точность, логику, изящество. Мне импонировали их универсальность и независимость от политики. Но это время прошло. В физматшколе я точными науками насытился, а в институте от высшей математики уже начинали болеть зубы. Матричное исчисление меня доконало. Кроме того, появились другие интересы: еврейская история и философия увлекали меня все больше; в Мишне и Гемаре стройности и логики было не меньше, а отношение лично ко мне они имели гораздо большее. Меня тянуло домой, к истокам.
Преподавателем по «вышке» у нас был профессор Макаренко Григорий Иванович. Помните учебник Краснова–Киселева–Макаренко? Так это он. Простой человек из‑под Полтавы. Высокий, вальяжный, с зачесанными назад седыми волосами. Прозвали мы его Паче чаяния, это было его словцо.
Мы вообще любили записывать за преподами их выражения, казавшиеся нам смешными или косноязычными. Рекордсменами всегда оказывались майоры и полканы с военной кафедры — они были вне конкуренции!
Бекицер, прихожу я на экзамен. В коридоре — мандраж, все зубрят конспекты, пишут шпоры. Ребята готовят целые микросвитки, которые вытаскиваются из шариковых ручек. Девчонки рисуют формулы на теле в самых невероятных местах — зрелище не для религиозного мальчика… Что вы хотите? Доинтернетная эпоха — приходилось‑таки готовиться!..
А я — смелый с похмелья. Иду первым, как Матросов на амбразуру. Открываю дверь в аудиторию — и вперед, за Родину! Внутри никого, только сам Паче чаяния за длинным преподавательским столом на возвышении, что‑то пишет. На столе разложены экзаменационные билеты. Меня вдруг охватывает легкая паника: ведь я ни одного не знаю.
— А, это вы! — Макаренко поднимает ко мне голову от бумаг. — Дверь заприте, будьте ласка…

Недоумевая, иду обратно к двери. В ней торчит ключ. Я поворачиваю его и возвращаюсь к столу.
— Вы знаете, уважаемый, меня вчера вызвал к себе проректор Носарев. Знакомы с ним? Вижу — знакомы…
Носарев — это МИИТовский гебэшник по прозвищу Мюллер, еще два года назад пообещавший свести со мной счеты, когда увидел меня с могендовидом на шее (см. майсу «Полтинник», 2017, № 12).
— Так вот, Носарев велел мне поставить вам на экзамене двойку… Я делать этого не буду. Давайте зачетку, студент, я ставлю вам четыре. Позовите следующего, будьте ласка…
Я не тянул билет, не отвечал, ничего не сделал — только зашел!
Вышел из аудитории как стукнутый пыльным мешком по голове. Девчонки: «Ну, чего там? Рассказывай! Ты сдал?» А я как во сне — по коридору и на лестницу… И только двумя этажами ниже меня осенило: это же первый экзамен из четырех!.. А таких «паче чаяний» в природе на миллион один!.. Но не одного же его вызывал к себе Мюллер, так? Значит, остальные три двойки обеспечены — к гадалке не ходи. Кроме, может быть, исторического материализма, по которому у меня экзамен «автоматом»…
Похмелье как рукой сняло. Я прямо из четвертого корпуса пошел в МИИТовскую поликлинику к своему лечащему врачу. Говорю ей:
— Доктор, у меня каждую неделю гипертонический криз…
Дело в том, что с тех пор, как я начал соблюдать шабос, я каждую пятницу «заболевал». Сначала дыхание перед кабинетом врача задерживал минуты на две — давление подпрыгивало. Потом вообще научился делать это самовнушением. И так целый год.
— Да, — подтверждает она. — С давлением у вас, студент, неважно…
— Да я и чувствую себя неважно, доктор… Мне бы отдохнуть…
— Идемте к главврачу, — она встала из‑за стола. — Будем писать вам направление на академический отпуск по состоянию здоровья…
Прямо от главврача я отправился в деканат. Зашел в кабинет к замдекана Баскиной, той еще стерве, а девочка‑секретарша смотрит на меня почему‑то как на собачку, сбитую машиной. Баскиной я торжественно вручил свое заявление на «академку» вместе с бумагой от главврача — отказать они не могут. Замдекана вышла в приемную, что‑то сказала секретарше, та вырвала из пишущей машинки лист, порвала его зачем‑то в мелкие клочья и стала печатать приказ о предоставлении мне академического отпуска, поглядывая на меня уже с уважением.
Позже я узнал от старосты потока три вещи. Во‑первых, на меня пришла «телега» из Государственной исторической библиотеки, где перечислялись все книги на еврейскую тематику, которые я там брал как в общем фонде, так и в спецхране, куда попал, пользуясь бумагой из райкома КПСС (см. майсу «Историчка», 2018, № 2). Во‑вторых, деканат собрал актив потока и поставил вопрос о моем отчислении по инициативе комсомольской организации. И тут случилось чудо. Даже чудо‑юдо. Им оказался наш комсорг Семен. Отличник, умница, с гротескно еврейскими внешностью и фамилией. Я обходил его всегда стороной — комсорг все‑таки. И этот Сеня встал на заседании актива и сказал, что комсомольская организация знает меня только с хорошей стороны. Оп‑паньки! Пришлось администрации на ходу менять тактику… И в‑третьих, в тот самый момент, когда я зашел к Баскиной по поводу «академки», они с секретаршей, той самой девочкой, готовили уже документы на мое отчисление по академической задолженности как несдавшего сессию. Это в самом начале экзаменационной недели. Баскина торопилась в отпуск…

Но и это еще не все. Во втором корпусе я увидел группу студентов, читающих большое, в лист ватмана объявление. Когда я подошел ближе, мне через спины студентов в глаза бросилось крупно написанное имя Ильи Когана. У меня моментально вспотела спина и задрожали кончики пальцев. Объявление сообщало о предстоящем общем комсомольском собрании для обсуждения персонального дела студента четвертого курса Когана Ильи Евгеньевича. Дело в том, что с моим другом Илюшей мы были «подельниками»…
Он учился не на моем факультете, а на прикладной математике и на два курса старше. Мы познакомились, когда я только поступил в МИИТ. Коган стал моим близким другом и наставником, устроил меня в группу иврита к Саше Барку, куда ходила и Илюшина мама Хиена Иосифовна, занимался со мной сам, вместе мы проводили субботы и праздники у Соловьевых. Но в стенах МИИТа созрел наш подпольный тандем. Мы были во многом похожи, а во многом дополняли друг друга. Я был очень общительным, Илюша — не очень. Я находился в самом начале соблюдения и потому сохранил еще свои связи с КСП, с туристскими группами, с театральной студией Байчера и так далее, имел друзей на разных факультетах от «мостов и тоннелей» до экономического, а Коган был кабинетным ученым, «ботаником». Я был пока довольно неграмотным, а Элиёгу (так его звали в еврейских кругах) учил уже Талмуд и Шулхан Орух и общался с иностранными раввинами.
Наша «подрывная деятельность» заключалась в следующем. Илья готовил и проводил у себя на квартире в Лосинке, где он жил вдвоем с мамой, очень увлекательные и полезные лекции об иудаизме для начинающих. На высоком интеллектуальном уровне. А я был его рекрутером. Бегал по корпусам и этажам родного вуза, а бывало, и по кабакам, и обеспечивал лектора аудиторией. Между прочим я со многими из тех моих «завербованных» поддерживаю связь до сих пор. Далеко не все они стали соблюдающими, хотя были и такие, но все благодарны Илюше за те семинары.
Помню, на лекции про Хануку, незадолго до описываемых событий, был аншлаг. Люди сидели в большой гостиной, в смежной с ней спальне и даже в коридоре. Пальто и куртки пришедших лежали огромной кучей возле входной двери. Там же громоздились портфели, тубусы и сумки — студенты пришли прямо из института после занятий. В конце лекции, рассказав об истоках Хануки с цитированием Геморы «Шабос», о законах и постановлениях, об историческом контексте праздника, Илья спросил, почему же тогда мы празднуем все восемь дней, ведь в первый день чуда не было. Затем он сообщил нам, что этот вопрос известен как «Бейс‑Йосефс кашья», что на него существует более ста традиционных ответов, и привел нам самые, по его мнению, интересные из них. Расходясь с лекции, мы спорили еще в метро.

Если уже Мюллер и его мюллерюгенды на всех факультетах знают о подрывной деятельности Когана, то они знают и обо мне как о его «агенте»… И если бы не упрямство прямолинейного Сеньки, комсорга нашего потока, сидеть мне тоже на скамье подсудимых на комсомольском собрании института.
Еще с тридцатых годов в нашей стране работала такая схема: партийного прежде чем арестовать, надо исключить из партии. Общим собранием, заклеймить с улюлюканьем, показательно. А у выхода уже может стоять черный ворон. Практика эта просуществовала до восьмидесятых. За аморалку или политику из института выгоняли только после показательного комсомольского собрания, на котором «подсудимого» исключали «за недостойное поведение», «за поведение, компрометирующее высокое звание комсомольца», и как непременное условие вносили в протокол слова «просить руководство института об отчислении». Не членов ВЛКСМ, кроме партийных и иностранцев, которых из института не выгоняли, я среди студентов МИИТа не знал. Думаю, некомсомольцу поступить в вуз было невозможно. На общих собраниях «жертву» клеймили позором с трибуны, и за исключение голосовали даже ближайшие друзья попавшего в мясорубку (что было особенно противно).
На нашем факультете, а я был только второкурсником и многих случаев мог просто не знать, имелись прецеденты исключения из комсомола с обязательным последующим отчислением из института. Нескольких студентов как «предателей Родины» выгнали за то, что их семьи подали документы на выезд в Израиль. Ходили слухи о том, что девочка «вылетела» за поставленную в церкви свечку. У двух девчонок, которых я знал лично, были большие неприятности за посещение израильского павильона на международной книжной выставке. Не помню, выгнали их в результате или нет. Могли заставить «сотрудничать» с органами…
В МИИТе был мощнейший «оперотряд» с активистами в каждой группе каждого курса. Члены этой организации, в частности, ходили на все еврейские праздники к синагоге и переписывали там всех, кого узнавали в лицо. Так что, когда мы говорим о пяти тысячах человек на улице Архипова, на Горке, в Симхас Тора, то надо понимать, что чуть ли не половина из них могла быть стукачами…
Случались и неполитические инциденты. Один умник на втором курсе догадался на форменной фуражке под железнодорожную эмблему с крылышками на тулье, под нижний край, засунуть копеечную монету. Понимаете, что получилось? Шутка почти стоила ему комсомольского и студенческого билетов, но у него оказался блат, и он сумел восстановиться.

А вот несколько четверокурсников с нашего факультета использовали свою форму гораздо эффективнее. Как работал контроль билетов в пригородных электричках? Трое ревизоров заходили в вагон в разные двери. Двое оставались в тамбурах, а один проверял билеты, идя по проходу. При обнаружении нарушителя составлялся протокол, выписывался штраф и высылалось письмо по месту работы, поэтому многие пойманные безбилетники просили ревизоров взять у них штраф без квитанции. Так мои сокурсники, благо форма у нас с железнодорожниками одинаковая, ходили по электричкам, выдавая себя за ревизоров, и собирали штрафы без квитанций. Пока не столкнулись с настоящими… На глазах у изумленных пассажиров произошла грандиозная драка контролеров. Вмешались сознательные граждане из публики. Самозванцев одолели и сдали в милицию… Из института их, конечно, выгнали с треском «за поведение, порочащее звание советского студента».
Сейчас этот треск раздавался над нами с Илюшей. Причем я благодаря «несознательным» комсоргу и профессору оказался во временной безопасности — отчислить находящегося в академическом отпуске студента нельзя, а вот друг мой, кажется, попал под паровоз…
Помочь я ему ничем не мог. Кстати, в Илюшиной группе одна девушка пыталась даже составить письмо в его защиту, но и ее, и тех, с кем она успела об этом поговорить, стали таскать в нехорошие кабинеты, и только уход в декрет и рождение ребенка спасли ее от отчисления.
Я афцелохес пошел в институтский комитет комсомола и подал заявление о выходе из ВЛКСМ по религиозным соображениям. Они впали в ступор. Такого в их практике еще не было. Молодые аппаратчики стали советоваться со «старшими товарищами» и нашли соломоново решение: раз я формально нахожусь в академическом отпуске, то со всеми заявлениями должен обращаться в комсомольскую организацию по месту жительства.
Я отправился с аналогичным заявлением во Фрунзенский райком. Там меня пригласили на заседание бюро райкома, где первый секретарь начал нести какую‑то чушь про то, что я, дескать, уеду в Израиль, будет война, и мы с ним окажемся в противоположных окопах и будем стрелять друг в друга.
— Какой Израиль, какие окопы, вы о чем? Я религиозный человек, выхожу из атеистической организации, хотите вы того или нет. Пишите резолюцию, и пошли по домам.
В тот же день я был «отчислен из рядов ВЛКСМ как потерявший связь с комсомольской организацией». Finita la comedia. Илюше это не помогло, но у меня на душе стало легче.

Майсы от Абраши

Майсы от Абраши