Пришло ли время принять всерьез самого плодовитого автора в истории человечества?
8 октября 2016 года умер Джейкоб Нойзнер, очень известный и необыкновенно плодовитый американский исследователь иудаизма, автор тысячи книг и множества прочих работ. «Лехаим» публикует статью о новой биографии ученого, вышедшую в «Tablet Magazine» в августе.

Есть по меньшей мере два способа написать биографию человека, которого «The New York Times» назвал самым публикуемым автором в истории человечества. Немногим более чем за полвека Джейкоб Нойзнер издал более тысячи научных и популярных книг и бесчисленное множество эссе, обзоров, открытых и личных писем, а также принимал участие практически во всех значительных американо‑еврейских дебатах со времен Второй мировой войны. Первый способ писать биографию такого человека — это корпеть над многотомным трудом в тысячу страниц, описывая каждую книгу, каждый период творчества, каждую полемику, каждое достижение героя. Второй путь — написать лапидарную 300‑страничную книжку и умело затронуть в ней самые важные черты и творения этого парадоксального интеллектуала (который был единственным ученым, приглашенным как в Национальный фонд искусств, так и в Национальный совет по общественным наукам) и в то же время осветить те многочисленные споры, которые он непроизвольно порождал, но не завязнуть в них. Чтобы написать такую биографию, автор должен уметь отделять зерна от плевел и воздерживаться от соблазна таблоидной науки. К счастью, Аарон Хьюз, автор скрупулезного исследования научных религиоведческих трудов Нойзнера («Jacob Neusner on Religion: The Example of Judaism»), предпочел второй вариант в своей новой книге «Jacob Neusner: An American Jewish Iconoclast» («Джейкоб Нойзнер — американский еврейский бунтарь»), умело ориентируясь в бурных водах его сложной, красочной и во многом недооцененной интеллектуальной жизни. Горькая ирония состоит в том, что Джейкоб Нойзнер был, пожалуй, одним из самых влиятельных представителей американской еврейской интеллектуальной жизни за последние полвека — и при этом вне академического мира, а точнее — вне академической иудаики, при том что многие знают его имя, мало кто действительно знаком с его работой. Лучше всего он был известен своей вспыльчивостью, воинственностью и неуживчивостью, своей уничтожающей критикой, рецензиями длиной в книгу, ссорами чуть ли не с каждым учреждением, где он работал, и чуть ли не со всеми своими учителями и многими своими учениками, а также ошибками, которыми изобилуют его переводы и другие работы. Он судился с организациями, в которых работал, и с людьми, которые критиковали его книги. И все же, как показывает Хьюз, нельзя недооценивать значение его вклада в науку.
Бытует такая шутка про Нойзнера: через пару столетий, изучая наследие Нойзнера, ученые будут считать, что Нойзнер — это научная школа, а не один человек. Никто не подумает, будто один ученый мог написать столько трудов в столь разных областях: о позднеантичном иудаизме, Холокосте, сионизме, иудео‑христианских отношениях, высшем образовании, гуманитарных науках и американской политике (этот список далеко не полон). В заключении к книге Хьюз отмечает, что Нойзнер, возможно, «самый важный еврейский мыслитель, которого произвела Америка». Это, конечно, очень громкое заявление и потому спорное, но по зрелом размышлении понимаешь, что оно вполне оправданно.
Джейкоб Нойзнер родился 28 июля 1932 года в Западном Хартфорде, штат Коннектикут. Нойзнеры были типичной ассимилированной семьей, у них не было прямых связей с родственниками, оставшимися в Европе, и потому — никакого личного отношения к Холокосту. Это была обычная американская еврейская семья в маленьком американском городе. Его отец работал в газетном бизнесе, и Джейкоб рано познал власть и силу слова — еще подростком он писал в местные газетки своего отца. Умение писать много и быстро стало его фирменным знаком.
Его репутация человека со сложным характером также сложилась довольно рано. Хьюз цитирует запись в его школьном дневнике за третий класс: «Он предпочитает не делать так, как делают другие, и это вызывает много проблем». Эта характеристика будет сопровождать Нойзнера на протяжении всей его взрослой жизни. Возможно, именно это качество помогло Нойзнеру достичь того, чего он достиг.
Нойзнер не получил еврейского образования, не считая самообразования, и, уже заканчивая школу, не умел читать на иврите. С иудаизмом он впервые по‑настоящему столкнулся, когда, будучи студентом первого курса в Гарварде, познакомился с профессором Гарри Вольфсоном. Вольфсон выступал за изучение иудаизма в рамках более широкой категории — религиозной философии. Эту идею в несколько видоизмененной форме Нойзнер возьмет на вооружение позже. Вольфсон был евреем из Старого Света, он говорил с заметным идишским акцентом, и, хотя его уважали, он так никогда и не интегрировался полностью в университетскую среду Гарварда. При этом он придерживался мнения, распространенного в то время, что если ты не был воспитан в стенах еврейского дома учения, например ешивы, ты никогда не сможешь всерьез заниматься академическим изучением иудаизма и достичь каких‑либо результатов на этом поприще. Поэтому, даже признавая талант у этого добросовестного ассимилированного еврейского юноши, Вольфсон отговаривал его делать академическую карьеру в области иудаики. Но, как заметил его школьный учитель, Нойзнер редко поступал так, как ему говорили.
Традиционное образование дает человеку лингвистические и культурные навыки, позволяющие читать источники в оригинале и знать их очень глубоко, но в то же время оно может загасить способность творчески читать и анализировать текст, способность, которая характеризует лучших ученых. Многие — хотя, разумеется не все — ученые, с юности пребывавшие в традиционной среде, на протяжении всей своей дальнейшей карьеры либо вытравливали из себя свое воспитание, либо извинялись за него. Нойзнер писал: «Мое преимущество состояло в том, что я на все смотрел свежим взглядом, поскольку ничего не знал». Иными словами, независимость от традиционной системы еврейской учености позволила Нойзнеру войти в иудаику со стороны и затем изменить ее.
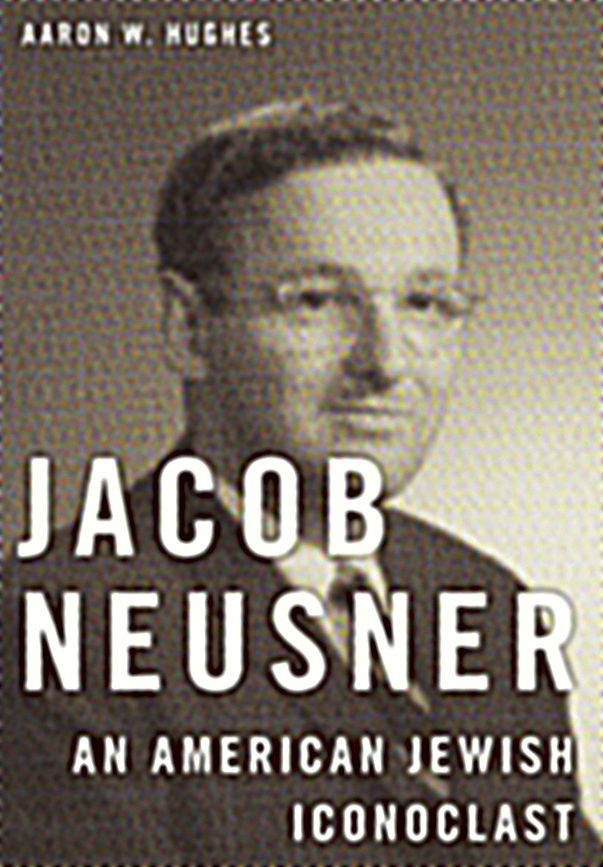
Но Нойзнер не пришел из ниоткуда. Он учился в элитных американских университетах у крупнейших ученых, и, возможно, именно американская призма, через которую он впитывал еврейскую традицию, помогла ему придумать новый путь. Для сравнения можно посмотреть на европейских еврейских ученых, таких как Гершом Шолем, Франц Розенцвайг, Мартин Бубер, Эммануэль Левинас и Эмиль Факенхейм; они тоже пришли к иудаизму поздно и со стороны. И хотя нойзнеровский статус неофита совпадает с их статусом, его отличала его американскость.
Возможно, так получилось случайно, но в юности Нойзнер учился у виднейших американских исследователей иудаики: от Вольфсона до Сола Либермана, от Сало Барона и Абрахама Джошуа Хешела до Мортона Смита. И хотя многие другие молодые ученые шли по тому же пути, никто не усвоил, приспособил для себя, а затем по большей части отверг учение этих гигантов таким образом, чтобы создать что‑то новое и долговечное в изучении иудаизма.
Окончив Гарвард и проведя год в Оксфорде, Нойзнер поступил в Раввинскую школу Еврейской теологической семинарии. В то время семинария принимала всех, даже таких, как Нойзнер, совершенно не готовых к ее программе. В Еврейской теологической семинарии, под руководством одного из величайших талмудистов своего поколения Сола Либермана, Нойзнер открыл для себя Талмуд. Это открытие изменит его жизнь и — чего ни Либерман, ни сам Нойзнер не могли предвидеть — изменит подход к изучению раввинистической литературы в Америке.
Семинария Нойзнеру не нравилась. Он уважал Либермана, но никогда особенно не любил его, считал, что как учитель он был скучноват и «не вдохновлял», и отвергал его взгляд на академическую иудаику как науку, призванную защищать евреев, заниматься, как сформулировал Нойзнер, «апологетикой». Нойзнер писал о Либермане: «Он не только учил текстам <…> но и положительному, даже почтительному отношению к этим текстам».
Отказ Нойзнера от этого подхода стал одним из его самых долговечных вкладов в изучение иудаизма. То, как сегодня иудаизм изучается в светском академическом контексте, по крайней мере, отчасти является результатом отвержения Нойзнером величайшего исследователя иудаизма предыдущего поколения. Нойзнер никогда не делал тайны из своего пренебрежительного отношения к Либерману, и Либерман — незадолго до своей внезапной смерти — написал очень злобный и уничижительный критический разбор нойзнеровского перевода Иерусалимского Талмуда, у которого была своя история в еврейских научных кругах. Эта критика, безусловно, нанесла сокрушительный удар по карьере Нойзнера, но не остановила его масштабную интеллектуальную деятельность. Нередко яростно критикуя других, Нойзнер сам зачастую был способен на удивление хорошо воспринимать критику. Иногда он издавал исправленные версии своих книг, принимая во внимания указания коллег и рецензентов. Хотя ему никогда не нравилось делать то же, что делают другие, он очевидно прислушивался к тому, что они говорили о его работе.
В 1958 году Нойзнер спустился вниз по Бродвею, перейдя из Еврейской теологической семинарии (угол Бродвея и 122‑й улицы) в Колумбийский университет (угол Бродвея и 116‑й улицы), где стал заниматься изучением религии. Этот переход совпал с существенной переменой в его мировоззрении. Как он сам писал, «тогда впервые я увидел, что иудаизм — это не уникальный, а типовой случай, а евреи — не особенные, а просто интересные». В Колумбийском университете на Нойзнера наибольшее влияние оказал Мортон Смит, великий историк античного Средиземноморья; Нойзнер отзывался о нем как о «лучшем учителе, который у меня только был». Смит, который впоследствии охладеет к Нойзнеру под влиянием разгромной критики его работ со стороны Либермана, тогда поощрял его интерес к раввинистической литературе в контексте изучения религии. Кроме того, в Колумбийском университете преподавал Сало Барон, но Нойзнер относился к Барону без особого пиетета, считая его необычайно эрудированным, но по большей части неоригинальным мыслителем.
Этот переход от изучения иудаизма в этническом контексте к изучению иудаизма как религии, вероятно, начался для Нойзнера во время учебы у Смита в Колумбийском университете и продолжился в краткий период его преподавания в Дартмуте, где он принимал участие в работе кипучей дискуссионной группы, куда также входил Джонатан Смит (Нойзнер знал его по семинарам Мортона Смита в Колумбийском университете, которые Джонатан посещал, будучи еще подростком), которому спустя несколько десятилетий суждено будет изменить облик религии. В эту группу также входили Ханс Пеннер, религиовед и ученик Мирчи Элиаде, и крупный исследователь Нового Завета Уэйн Микс. Именно в Дартмуте Нойзнер начал формулировать свое представление об иудаизме как части гуманитаристики, которое станет фундаментом наиболее продуктивного периода в его карьере. Это совпало с общими переменами в изучении религии в американских вузах в связи с принятым в 1963 году решением Верховного суда по делу «Школьный округ Абингтона, Пенсильвания, против Шемппа», которое объявило антиконституционным чтение Библии в государственных школах. Появление границы между «обучением религии» и «изучением религии» приведет к возникновению кафедр светского религиоведения в университетах. Нойзнер был среди первых поборников этих перемен в то время, когда изучение иудаизма все еще было главным образом теологическим — по своему подходу и содержанию.
Еще одна инновация Нойзнера, восходящая к этому раннему периоду, это его отказ от понятия иудаизма как постоянной исторической категории. Он предпочитал термин «иудаизмы», точнее отражающий ситуацию функционирования религии в непохожих друг на друга еврейских общинах. Он писал об этом: «Целостность иудаизма явится в анализе его разнообразия; если сводить “иудаизмы” к “основам иудаизма”, то получится нечто не только не аутентичное, но и вовсе неопознаваемое». Если концепцию «иудаизмов» сегодняшняя наука в основном отвергла, современное конструирование научной категории «исправленная версия иудаизма» обязано тогдашнему вмешательству Нойзнера в эту сферу.
Предложение Нойзнера передвинуть иудаику из этнографии в страноведение или сделать ее неотъемлемой частью гуманитарных наук подразумевало также опровержение любой исключительности или избранности евреев как условие ответственной научной работы. Хьюз пишет: «Нойзнер отказывался воспринимать евреев как особенных или избранных. Для него они были лишь сообществом, пытающимся осмыслить свое положение с помощью комплекса идей и текстуальных стратегий, выработанных во взаимодействии с другими сообществами». В то время (1970‑е) в иудаике это было ересью, даже святотатством. Сегодня эта идея гораздо шире признана, хотя продолжает оспариваться.
Ключевые для карьеры Нойзнера книги, переписавшие подход к изучению раввинистической литературы, многочисленны и оказали глубокое влияние на эту область. Джонатан Смит назвал одну из них «Иудаизм: Свидетельство Мишны» (1981) «коперниканской революцией в талмудических штудиях». Другой авторитетный коллега Нойзнера, историк древнего Израиля, который признает, что многим обязан Нойзнеру, но иногда высказывается о нем критически, написал мне в личном письме, что «крайне мало исследований раввинистической литературы в историческом ключе, написанных до него или после, но без учета его вклада в эту область, [сегодня] воспринимаются всерьез. У меня есть чувство, что он, вероятно, сделал больше кого‑либо другого для того, чтобы изучение иудаизма прижилось на факультетах религиоведения в современной Америке».
Нойзнер мог со всем основанием полагать, что его величайшим наследием будет сочтен его вклад в изучение раввинистической культуры. Его пятитомная «История евреев в Вавилонии» (1965–1969) стала первой попыткой прочтения Вавилонского Талмуда в иранском контексте; впоследствии такой подход стал очень популярен, хотя по‑прежнему горячо оспаривается. Нойзнер же стал изучать фарси и среднеперсидский, чтобы понимать Талмуд в этом контексте, за несколько десятилетий до того, как такая тактика вошла в моду. Вдобавок к этому Нойзнер тогда же предположил, что и иудаизм, и христианство — это религии IV века, что заставило ученых пересмотреть вопросы происхождения иудаизма и христианства и «расхождения путей». И это были не поэтапные смещения акцентов, а мощные призывы к переосмыслению раввинистического иудаизма и раннего христианства.
Но хотя вклад Нойзнера в изучение талмудической литературы действительно огромен, даже учитывая его ошибки и неверные прочтения, Хьюз полагает, что главное его достижение не в этом. Собственно, есть еще по меньшей мере три области, в которых, по мнению Хьюза, труды Нойзнера, по большей части оставшиеся незамеченными, изменили отношение американских евреев к иудаизму.
Первая тема — это одержимость американских евреев Израилем и Холокостом, о чем в начале 1980‑х Нойзнер написал целую серию книг, самая известная из которых — «Незнакомцы дома: “Холокост”, сионизм и американский иудаизм» (1981). Один рецензент назвал ее одной из лучших книг об американском иудаизме, написанных в послевоенной Америке. В этой книге, не слишком широко известной, Нойзнер одним из первых обратил внимание на тот вред, который американской еврейской жизни продолжает наносить чрезмерное внимание к Холокосту и чрезмерное увлечение Израилем. В тот же год Роберт Алтер опубликовал статью «Деформация Холокоста» в «Commentary Magazine», приходя к сходным выводам, но лишь в 2000‑х эта тема стала широко обсуждаться в американских еврейских кругах. И прозвучавший в 1980‑х призыв Нойзнера к оживлению еврейского образования как противоядию от ассимиляции (о том же, хотя иначе в 1955 году писал Уилл Герберг) был услышан и привел к реальным последствиям лишь недавно. Нойзнер однажды написал об этом: «Я предпочитаю иудаизм еврейскости».
Вторая область — академическая иудаика как таковая. В середине 1970‑х Нойзнер издал трехтомник под названием «Академическое изучение иудаизма: эссе и размышления». Сегодня об этих книгах мало кто помнит и они уже несколько устарели, но тогда они изменили еврейские исследования в академии. На мой взгляд, каждый магистрант, собирающийся делать научную карьеру в иудаике, обязан прочесть эти тома хотя бы потому, что академическая иудаика сегодня — это расширенный вариант того, что отстаивал Нойзнер более тридцати лет назад.
Я упомянул, что бо́льшая часть трудов Нойзнера в этих областях осталась незамеченной, поскольку ни одну из этих книг сейчас широко не обсуждают и не изучают. А стоило бы. Например, Нойзнер боролся против той установки, что неевреи не должны становиться исследователями иудаики; он даже угрожал судом тем университетам, которые, по его мнению, дискриминировали его нееврейских студентов на этом основании. Он резко критиковал Ассоциацию иудаики, основанную в 1969 году, в первые годы ее существования за излишний евреецентризм; он даже отошел от этой организации и отдал свои силы Американской академии религии, став в 1969 году ее президентом. И вот в 2014 году на банкете Ассоциации иудаики ее президент Джонатан Сарна гордо заявляет о росте числе неевреев — членов этого ученого сообщества, называя это успехом Ассоциации в деле продвижения иудаики за пределы этнических границ еврейства. На мой взгляд, Ассоциации иудаики предстоит еще долгий путь, прежде чем она преодолеет свое «этническое» прошлое, но в любом случае мало кто в той аудитории в 2014 году, особенно среди молодых ученых, знал, что Нойзнер говорил об этом еще в 1970‑х.
Третья недооцененная часть наследия Нойзнера — это результат его теологического поворота в 1990‑х. Наибольшую известность получила книга «Рабби беседует с Иисусом» (1992), которую кардинал Рацингер, будущий Папа Бенедикт XVI, назвал «безусловно самой важной книгой для иудео‑христианского диалога за последнее десятилетие». В 2010 году Нойзнер получил орден папы Бенедикта XVI. Большая часть его работы в области иудео‑христианских отношений велась в сотрудничестве с профессором Брюсом Чилтоном; эти исследования активизировались, когда в 2006 году Нойзнер стал работать в Бард‑колледже и вместе с Чилтоном основал там Институт высшей теологии. Переход от истории к теологии в творчестве Нойзнера 2000‑х годов согласуется с его идеей рассматривать раввинистический иудаизм как «философию», то есть как мировоззрение, выходящее за рамки закона и обряда. Несколько необычно, что ученый, столь преданный историческому подходу к иудаизму, стал использовать тот же материал, чтобы доказывать его философское и теологическое значение. Но именно этот необычный переход ознаменовал последнюю фазу интеллектуального творчества Нойзнера.

Примечательно, что, поскольку Нойзнер переходил из одной научной дисциплины в другую, мало кто может оценить всю траекторию его научного пути. К примеру, историки иудаизма, скорее всего, не будут читать его теологические работы, а те, кто интересуется теологией, не обратятся к его ранним историческим трудам. Оборотная сторона его плодовитости в том, что мало кто сможет взять на себя труд проанализировать связи между многочисленными измерениями его научных проектов. Я полагаю, Хьюз совершенно верно пишет, что «этот теологический Нойзнер был естественным продолжением того Нойзнера, который столь страстно описывал, каким должна стать иудаика, чтобы быть жизнеспособной научной областью». Надо надеяться, что в будущем ученые проанализируют это более подробно.
В своих политических взглядах Нойзнер шел против всех, даже против самого себя. С появлением новых левых и устремлением многих в гуманитарных науках к более прогрессивной политике Нойзнер заделался республиканцем. Он подружился с палеоконсерваторами и неоконсерваторами, такими как Лин Чени, Уильям Бакли, Уильям Бенет и Джесс Хелмз, активно выступал против положительной дискриминации и фотовыставки Роберта Мэпплторпа, поддерживал консервативные решения в культуре и политике, каждого из которых было бы достаточно, чтобы сделать его имя ненавистным для молодых ученых, которые работали, сами того не зная, в интеллектуальном ландшафте, очерченном и созданном при участии Нойзнера.
Его отношение к Израилю и сионизму было более сложным. В 1970‑х он был одним из первых критиков оккупации (некоторое время он состоял членом Американского еврейского протестного движения Брейра, основанного в 1973 году) и непреклонным критиком израильской академии, которая, по его мнению, почти ничего не давала изучению иудаизма, как он его видел. Он был по сути своей американским евреем; как‑то он написал, что как еврей чувствует себя в большей безопасности в Нью‑Йорке, чем в Иерусалиме. В своем обращении к «Гиллелю» в Массачусетском технологическом институте в 1952 году, всего через четыре года после основания Государства Израиль, он сказал: «Флаг Израиля — не мой флаг. Моя родина — Америка». И хотя он считал себя сионистом, он никогда не призывал американских евреев эмигрировать в Израиль и сам проводил там крайне мало времени, лишь изредка отправляясь туда читать лекции. Какова была его позиция по арабо‑израильскому конфликту, я не знаю. Как бы то ни было, либеральные взгляды Нойзнера каким‑то образом сосуществовали с его резко консервативной позицией по другим вопросам. Его школьный учитель опять оказался прав.
И наконец, нельзя писать о Джейкобе Нойзнере, не касаясь его вспыльчивого характера. Сложно найти такую полемику, в которой бы он не участвовал, а многие из них он сам и начал. И он с готовностью признавал это. Однажды он написал: «Я полагаю, если человек пользуется привилегиями университетской ставки, его нужно спросить, почему он не участвует в спорах. Факты говорят за себя. Я горжусь своими шрамами и ранами, полученными в ходе многочисленных дебатов, я считаю их свидетельствами чести и достоинства — они показывают, что я выполнил свой долг». Отчасти проблема в том, что этот человек — среди нас, многие его знают или слышали о нем разные истории. Опасность оценивать живого интеллектуала в том, что вы оказываетесь либо слишком сентиментальны к нему, либо слишком критичны. Мы с готовностью и, вероятно, с удобством для себя забываем о характере великих людей прошлого. К примеру, даже из агиографических сочинений нам известно, что великий ученик Баал‑Шем‑Това Яаков‑Йосеф из Полонного, которого по сей день почитают и изучают, был совершенно невыносимым человеком. Хорошо известны также выходки Менахема‑Менделя из Коцка, не говоря уж о более современных деятелях, таких как Гершом Шолем или Якоб Таубес. Дело в том, что Нойзнер зачастую был сам себе худшим врагом, и его личность, его поведение, безусловно, должны учитываться при изучении его наследия. Его трудный характер и его решение написать столько, сколько он написал, очевидно, приуменьшили его авторитет для современников. И все же он выстоял и остался верен себе. Когда Хьюз спросил Нойзнера, не кажется ли ему, что он написал слишком много, тот ответил: «Я не понимаю вопроса». И я думаю, он ответил честно. Как и для большинства из нас, для Нойзнера «кем он был» и «что он сделал» неразделимы.
Хьюз пишет, что «парадоксальным образом, самые значительные деяния Нойзнера никак не связаны с той областью, американским пионером которой он считается, — с раввинистическими исследованиями. Скорее, на мой взгляд, новаторство Нойзнера в том, как он определял место иудаизма в американской гуманитарной науке, и в его теологических работах; и то, и другое выросло из его журналистского опыта». И это, конечно же, возвращает нас к задиристому типично американскому мальчику в предвоенном Западном Хартфорде, штат Коннектикут. Прав ли Хьюз, покажет время, но я склонен согласиться с ним. Безусловно, он прав в том, что работы Нойзнера об иудаизме и гуманитарных науках, об американском иудаизме и теологии куда менее известны, чем его талмудические исследования или его личностные особенности. Но нравится вам это или нет, таков удел человека на академической сцене. На мой взгляд, биография Хьюза выполняет одну очень важную задачу: она знакомит Америку с одним из самых значительных еврейских исследователей иудаизма, которых Америка когда‑либо породила. 

Яков Рабкин: я не вижу перспектив будущего палестинского государства

Талмудическое путешествие начинается

