In Geveb: Прогулки по литературным тропам Хабада: От «Ликутей Тора» до Хаима Гравицера
Влияние хасидизма и хасидских рассказов на современную еврейскую литературу уже изучалось исследователями, которые отмечали значение хасидских маамарим и других мистических текстов. В данной статье мы попробуем сделать еще один шаг в междисциплинарных исследованиях хасидизма и новой еврейской литературы и проследить, каким образом свойственная хасидизму Хабада традиция «литературного мистицизма» проникла в более массовую новую еврейскую литературу. Наша первая задача состоит в том, чтобы проследить развитие литературной традиции Хабада в течение XIX столетия и показать, какое отражение получила эта традиция в романе на идише д‑ра Фишла (Фишеля) Шнеерсона (1888–1959; жил в Речице, Берлине и Тель‑Авиве) «Хаим Гравицер». Во второй части статьи мы подробнее рассмотрим творчество ивритского поэта Авраама Шлёнского (1900–1973), который перевел роман Шнеерсона на иврит. Наша гипотеза состоит в том, что в главном герое романа можно увидеть своего рода персонификацию самого Шлёнского как хасида‑мятежника, который странствует между двумя противоположными берегами. В целом статья призвана дополнить существующую хронологию, возводящую новую еврейскую литературу к хасидским корням, и показать, что и Шнеерсон, и Шлёнский в действительности продолжали хасидскую литературную традицию Хабада, даже усвоив альтернативные литературные формы для раскрытия новых тем.
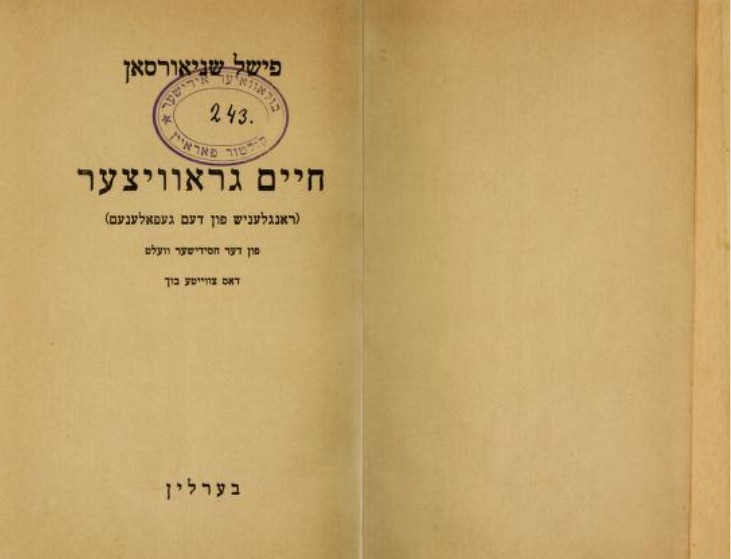
Введение: Литературные пересечения и междисциплинарный подход
В 1981 году покойный ученый и хасид Йеошуа Мондшайн опубликовал статью, которая называлась «Хабадские мотивы в рассказе Шмуэля‑Йосефа Агнона “Отверженный”» . Анализ Мондшайна показывает, что ключевой момент в рассказе Агнона — это заявление закена, который есть не кто иной, как Адмор а‑Закен, или Алтер Ребе Хабада, — раввин Шнеур‑Залман из Ляд (1745–1813): «Владыка мира! Я пожертвую всем, что есть в Твоем мире, Твоим Садом Эдемским и даже вратами света. Я уступлю Тебе всё, Владыка мира. Я стремлюсь к Тебе, к Тебе одному!» «Отверженный» («А‑Нидах») — рассказ о хасидском возмездии, в котором внук ревностного миснагида (противника хасидизма) Авигдор проникается чувствами основателя Хабада и в конце концов сам переживает «восхождение души», мистическую и буквальную смерть, и «с ужасающей страстью и пугающей силой» (בהתלהבות איומה ובגבורה נוראה) он декламирует стих из Песни Песней: «Влеки меня! За тобой побежим. Привел меня царь в покои свои» (Шир а‑ширим, 1:4). Агнон описывает: «Душа его отлетела с этими словами» .
Хотя и другие исследователи отмечали хасидские мотивы в литературном творчестве Агнона, обычно в них не видели отражения хасидизма как фактора литературы, и в целом роль хасидизма в новой еврейской литературе представлялась не очень значительной . Однако в последнее время тенденция описывать новую литературу на иврите как «прямое продолжение» движения Гаскалы, а также пренебрегать литературными достижениями хасидских текстов стала подвергаться сомнению. Например, Кен Фриден и Лили Кан по‑новому взглянули на хасидские литературные формы. Фриден показал, что при формировании современного ивритского стиля большое значение имели хасидские авторы и язык идиш . Кан продемонстрировала, что библейские формы на самом деле составляют «существенный компонент» хасидской грамматики, переплетаясь и сочетаясь с раввинистическими и идишскими формами .
Эйтан Фишбейн, Шауль Магид и Дон Симан подошли к этой теме с точки зрения других дисциплин и посвятили специальный выпуск журнала Prooftexts вопросу о том, «как (и в какой степени) модели, разработанные при изучении литературы, можно применить к текстам, порожденным еврейским мистицизмом», а также «как литературные и другие черты этих текстов связаны с культурой и феноменологией религии» . Статья Симана посвящена маамару («речи») — «техническому и изобилующему аргументами <…> теоретическому трактату» — сына Шнеура‑Залмана, раввина Дов‑Бера Шнеури из Любавичей, который в истории Хабада получил имя Дер Мителер Ребе . Работа Симана имеет особенное значение, поскольку его этнографическая точка зрения показывает, какую важную роль играли эти теоретические маамарим в реальном опыте хасидизма Хабада:
Произведение собирает воедино социальные, политические и религиозные реалии, чтобы составить картину, которая в случае удачи получит признание и изменит характер опыта при движении вперед. Но это концептуальное изменение связано также с такими эмоциональными и субъективными факторами, как возвышение ценности «слома» и печали, которые не отделимы от ритуальной практики в сломленном мире после хурбн [Катастрофы]. Кроме того, в этом контексте чрезвычайно важно, что литературный текст призван не только повлиять на мировосприятие людей, но и непосредственно изменить мир и вселенную .
Составление, изучение и повторение этих маамарим последующими раввинами и их хасидами было чрезвычайно важно для истории Хабада как интеллектуального и социального движения. Симан напоминает нам, что маамарим такого рода были «скорее нормой, а не исключением в хасидской литературе», и отмечает, что их задача состояла в том, чтобы буквально и фигурально «осветить» мир и приблизить истинное спасение .
Недавно вышла монография Оры Вискинд Эльпер «Хасидские комменитарии к Торе» — новый важный вклад в изучение текстуального учения хасидизма через литературоведческий подход. Важно отметить, однако, что все эти исследования практически не затрагивают точки соприкосновения между собственно хасидской литературной традицией и развитием новой еврейской литературы в целом.
Похоже, одни исследователи занялись влиянием хасидизма и хасидских рассказов на новую еврейскую литературу, а другие — на литературную значимость хасидского учения. При этом проникновение хасидской традиции «литературного мистицизма» в широкий контекст новой еврейской литературы остается практически совершенно не изученным. Важным исключением из этого правила служит работа Алисы Масор, посвященная становлению фигуры «литературного неохасида». Она посвящает одну главу д‑ру Фишлу (Фишелю) Шнеерсону из Гомеля, Берлина и Тель‑Авива (1888–1958) и сочетанию хабадской мысли и психологической науки в его идишском романе «Хаим Гравицер» . Но Масор не рассматривает сочинение Шнеерсона в более широком контексте хасидской литературной истории и не обращает внимания на бытование этого идишского романа в знаменитом переводе на иврит .
Наша цель в данной статье: отталкиваясь от результатов, полученных Масор, показать, что роман Шнеерсона представляет собой переходное, ранее не изученное звено в развитии новой еврейской литературы. Ее траектория начинается с внутренней литературной традиции хасидизма Хабада, а затем получает новое выражение за формальными пределами хабадской общины, на идише и на иврите, в таких жанрах, как художественная проза, переводы и поэзия. Хабадская культура Мединат райсен (Белоруссии) встретилась с литературными и культурными институтами Центральной и Восточной Европы, а позднее участвовала в формировании израильской культуры и идентичности.
Нихам Росс утверждал, что неохасидские писатели, в том числе И.‑Л. Перец, «воспринимали хасидизм <…> как многообещающий духовный источник, содержащий разрушительный элемент, который может послужить предвестием современного подхода к еврейской идентичности, подхода, который потенциально способен привлечь и даже вдохновить душу современного еврея» . В нашей статье мы займемся не столько вопросами литературного влияния, сколько той ролью, которую роман «Хаим Гравицер» сыграл в осмыслении новых форм еврейской идентичности, как для автора, так и позднее для переводчика, ивритского поэта Авраама Шлёнского, чья связь с наследием Хабада до сих пор остается совершенно неисследованной. Я покажу, что «Хаим Гравицер» стал призмой, через которую Шнеерсон и Шлёнский видели собственный путь между традицией и модернизацией.
Следует отметить, что и Росс и Масор указывали, что большинство неохасидских авторов в действительности не считали себя ни в какой степени хасидами. Однако они унаследовали хасидскую традицию бунта против традиции, чтобы воплотить в ней собственные эмоции, связанные с отчуждением от еврейской традиции. Масор, например, считает, что Перец — столь же неомаскильский писатель, сколь и неохасидский . Мы же собираемся показать, что Шнеерсон и Шлёнский продолжали считать себя хасидами Хабада, хотя оба они в разной степени отвергли обычные способы выражения хасидской идентичности и перешли границы традиционной хасидской жизни. Если Шнеерсон пытался создать некий синтез из хасидской традиции и современности, то Шлёнский воплощал хасидскую религиозность через бунт. Далее мы покажем, что важными признаками такого развития являются литературные и личные отношения, существовавшие между Шнеерсоном и шестым Любавичским Ребе Йосефом‑Ицхаком Шнеерсоном (1880–1950), а также Шлёнским и седьмым ребе Менахемом‑Мендлом Шнеерсоном (1902–1994).

Первая часть статьи касается базового вопроса литературного влияния. Мы полагаем, что «Хаим Гравицер» представляет собой современную адаптацию интертекстуальной методологии, разработанной хабадскими учителями в XIX веке, и ее центральные мотивы духовного изгнания и путешествия имеют явные параллели в хабадской литературе. Вторая часть посвящена хабадской диалектике акосмизма и внутреннего мистицизма, а также интеллектуализма и простой веры, отразившейся в «Хаиме Гравицере» и в формировании собственного духовного мировоззрения Шнеерсона. В третьей части мы обратимся к диалектике мятежа и религиозности в «Хаиме Гравицере» и сочинениях его переводчика Шлёнского и изучим другие аспекты самоидентификации Шлёнского и его связей с Хабадом вплоть до конца жизни, а также отражения этих явлений в его поэтических произведениях.
В целом статья призвана дополнить существующую хронологию, возводящую новую еврейскую литературу к хасидским корням, и показать, что и Шнеерсон, и Шлёнский в действительности продолжали хасидскую литературную традицию Хабада, даже усвоив альтернативные литературные формы для раскрытия новых тем.
Часть 1: Гемшех, роман и интертекстуальное наследие Цемаха Цедека
У раввина Шнеура‑Залмана из Ляд было три ученика, которые черпали воды Хабада непосредственно из его источника и которые сами стали крупными лидерами Хабада, мыслителями и учителями. Исследователи посвятили немало внимания изучению различий в мировоззрении раввина Аарона а‑Леви Горовица из Страшелье (Староселья, 1766–1828) и раввина Дов‑Бера Шнеури из Любавичей (1773–1827) . Менее изучено учение третьего из этих раввинов, Менахема‑Мендла Шнеерсона из Любавичей (1789–1866) .
Последний, более известный под именем Цемах Цедек, которое он получил по названию сборника своих алахических респонсов, был внуком Шнеура‑Залмана, а также племянником и зятем Дов‑Бера . Хотя он жил в Любавичах при Дов‑Бере, он выработал независимый подход к вопросу о распространении и развитии учения Шнеура‑Залмана. Цемаха Цедека отличало то, что он не просто видел себя звеном в цепи устной культуры, в которой учение слушали, запоминали, повторяли и развивали, а с большим тщанием относился к записи учения своего деда. Главным направлением его интеллектуальной деятельности было редактирование текстов, а также интертекстуальный анализ литературного наследия деда .
Заметки Цемаха Цедека в глоссах с комментарием (агагот), обычно заключенные в скобки, пестрят бесчисленными ссылками на другие маамарим Шнеура‑Залмана, а также на его широко почитаемое сочинение «Ликутей амарим — Танья». Они свидетельствуют об особом значении тех или иных текстов и указывают на проблемы и открытия, возникающие при сопоставлении различных текстов. Кроме того, эти глоссы вводят учение Шнеура‑Залмана в более широкий каббалистический и раввинистический контекст, дополняя цитатами из Талмуда, мидрашей, «Зоара», сочинений Кордоверо и Лурии. Такого рода интертекстуальность позволила Цемаху Цедеку расширить интерпретационные возможности, оставаясь строго в рамках оригинальных текстов деда .
В 1866 году Цемах Цедек скончался. Несколько его сыновей, а впоследствии и внуков основали хабадские дворы в различных городах Белоруссии. В Любавичах его место занял младший сын Шмуэль (1834–1882), известный под акронимом Маараш . Он также придерживался отцовского интертекстуального метода и создал совершенно новый жанр в хабадской литературе, который получил название гемшех («серия»). Он не просто создавал законченные проповеди, а завел практику объединять их в серии, освещая одну и ту же тему в течение нескольких недель или месяцев. Каждая проповедь в серии имеет собственное начало, середину и конец, но одновременно она продолжает более широкую тему, которая выходит за рамки выводов, сделанных в этом конкретном тексте. Это позволяло Маарашу более подробно останавливаться на какой‑либо теме и синтезировать целый ряд различных тем, формируя тем самым более насыщенное и глубокое понимание вопроса .

На первый взгляд возникновение гемшеха может показаться полной противоположностью агагот Цемаха Цедека. Но на самом деле Маараш следовал примеру отца, обращая пристальное внимание на корпус текстов, унаследованных им от первых трех ребе в основной линии наследования Хабада. В собственных маамарим он всегда ссылался на них, нередко дословно цитируя большие фрагменты из текстов предшественников. Однако важно отметить, что он не просто пересказывал их, а подвергал их систематическому переосмыслению, совершенствуя и заново формулируя их и вводя их в новый контекст в интересах приведения новых аргументов. Однако истинная сила гемшеха связана со способом организации материала, связывающего различные аспекты учения воедино и демонстрирующего их в совокупности. Совмещенные в едином контексте, эти разрозненные учения приобретали новые оттенки и с помощью изобретательных усовершенствований Маараша оказывали более сильное воздействие.
Таким образом, гемшех представляет собой новаторское продолжение интертекстуального подхода, предложенного впервые Цемахом Цедеком. Цемах Цедек применял этот интертекстуальный метод поступательно, создавая нечто вроде комментария, который использует внешние источники для помещения комментируемого текста в контекст и развития содержащихся в нем мыслей. Маараш же использовал интертекстуальный метод для создания совершенно новой структуры, всестороннего рассмотрения единой центральной темы.
Важным примером этого явления служит «Гемшех ве‑каха а‑гадоль» — первая проповедь, произнесенная на Песах 1877 года, которая была завершена только зимой следующего года . В целом можно сказать, что «Ве‑каха» представляет собой описание мистического путешествия, которое начинается с исхода евреев из Египта и заканчивается избавлением, ожидаемым в мессианском будущем. Центральный образ, с которого начинается гемшех, — это образ странника, впервые возникающий в заповеди, данной Б‑гом еврейскому народу в отношении пасхального агнца, которого нужно было вкусить перед исходом: «Ве‑каха тухлу ото» — «И так ешьте его: чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посох ваш в руке вашей» (Шмот, 12:11).
Примечательно, что образ странника с посохом в руке будет центральным и в романе Фишла Шнеерсона «Хаим Гравицер». В конце первой беспокойной ночи, проведенной в лесу после похорон любимого сына, главный герой отламывает от дерева ветку, делает себе посох и отправляется в путь — путь человека, который упорно идет вперед, хотя душа его повержена. Он все еще держит в руках посох в эпилоге романа, входя в «большой зал» в Любавичах, чтобы обрести утешение и пережить восхождение .
Еще важнее этого общего образа общая связь с литературным наследием Цемаха Цедека. Конечно, Цемах Цедек («Ребе») фигурирует в романе Шнеерсона, и ключевой элемент кризиса, переживаемого Гравицером, связан с дисбалансом в его отношениях с Ребе, который возникает, а затем постепенно увеличивается . Однако вместе с тем роман представляет собой дальнейшее развитие интертекстуального метода Цемаха Цедека; Шнеерсон сообщает, что маамарим, послужившие для развития сюжета «Хаима Гравицера», взяты из его собственных конспектов подлинных хабадских маамарим . Вписывая существующее учение в общую структуру романа, Шнеерсон заставляет изречения раввинов вступать в диалог между собой, формируя тем самым более сложную и масштабную идеологическую конструкцию.
Можно назвать «Хаима Гравицера» литературной версией гемшеха. Вопрос о том, до какой степени Шнеерсон был знаком с изобретениями своего двоюродного прадеда Маараша и до какой степени он осознавал внутреннюю перекличку между гемшехом и собственным романом, остается открытым. Однако невозможно отрицать, что оба они многим были обязаны Цемаху Цедеку и унаследованной ими хабадской культуре работы с текстом и передачи текста .
Также нельзя отрицать, что существует фундаментальная разница между двумя этими выражениями интертекстуальной традиции Хабада — гемшехом и романом. Гемшехим создавались действующими ребе и передавались в традиционном контексте хасидского двора Хабад‑Любавич. Роман «Хаим Гравицер» был написан внуком ребе, оставившим традиционную среду, в которой он вырос, и теперь пытавшимся переосмыслить ее в литературной форме. Серия маамарим, которую представлял собой гемшех, давала возможность не только для внутреннего диалога, но и диалога со всеми характерными элементами хасидской жизни, практики и опыта. Органическим контекстом учения служила живая культура песни, духовности, молитвы и традиции, поэтому она легко интегрировалась в биографию тех, кто слушал маамарим, записывал их, повторял, учил наизусть и строил по ним свою жизнь. А Шнеерсон начал свой литературный проект в Берлине, на немалом расстоянии от естественного контекста хабадской культуры. Поэтому в «Хаиме Гравицере» ему нужно было воссоздавать на литературном уровне культурную среду хасидизма Хабада — контекст становился художественным вымыслом и неотъемлемой частью текста.
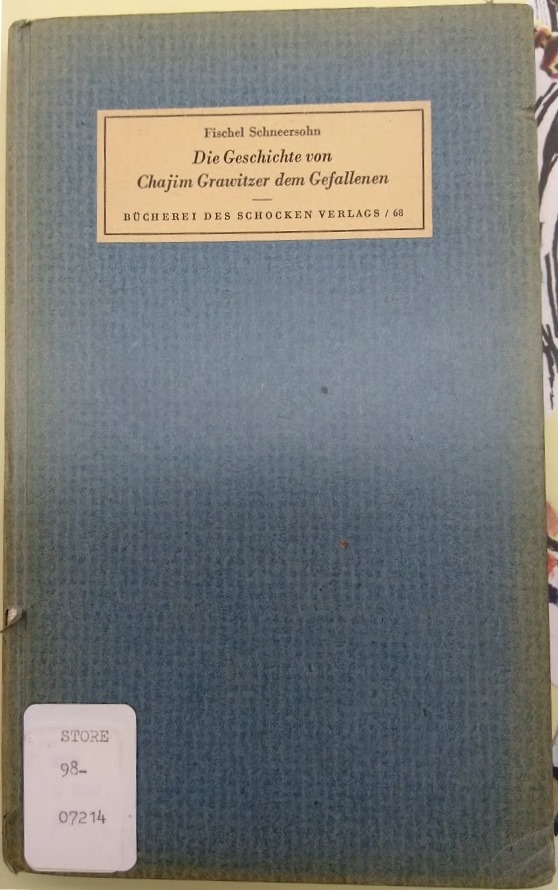
Часть 2: Хабадская диалектика акосмизма и внутреннего мистицизма в литературной перспективе
В теологическом и космологическом учении Хабада есть два фундаментальных принципа, между которыми поддерживается постоянное сильное напряжение. Первый из них — принцип Б‑жественного единства или сингулярности, зашифрованный в стихе «эйн од милвадо» («нет более, кроме Него»; Дварим, 4:35)
. Второй зашифрован в изречении Мишны: «Пресвятой, да будет Он благословен, пожелал обитать в дольних мирах», и в хабадской литературе он рассматривается как основное предназначение творения, Торы и мицвот
. Подробнее о развитии этой идеи, взятой из мидрашей, в хабадской теологии см.: Грюнвальд Нохум. Дира бе‑тахтоним ке‑мусаг у‑ке‑тора июнит // А‑рав, 506–562; Rubin Eli. Intimacy in the Place of Otherness // Chabad.org <Chabad.org/2893106> (дата доступа: 30 июля 2018 г.)
“]. Первый принцип указывает на акосмическую несущественность или ничтожность физического мира, а второй приводит к противоположному заключению — что как раз физический мир и пребывание в нем Б‑га имеют высшее значение. Таким образом, хабадскому мировоззрению свойственна диалектика акосмизма и внутреннего мистицизма, искупительных поисков трансцендентной сущности Б‑га и изгнания души в телесную форму земного существования
.
Это напряжение присутствует во всех трех рассматриваемых нами литературных произведениях: в «Отверженном», «Ве‑каха» и «Хаиме Гравицере». Внимательно изучив различные воплощения этой диалектики, мы можем показать, как в результате глубокого анализа внутренней литературной и интеллектуальной традиции Хабада и обработке ее в романной форме Шнеерсон создает новую, более сложную концепцию. Это особенно ярко видно, если сравнить романную обработку этой темы у Шнеерсона с рассказом Агнона. Если рассказ Агнона касается только одного полюса этой диалектики, то Шнеерсон рассматривает две ситуации, в которых эти полюса могут сталкиваться или примиряться в жизни одного хасида.
Как отмечалось в начале этой статьи, в «Отверженном» Агнон заимствует знаменитое восклицание Шнеура‑Залмана из Ляд: «Я стремлюсь к Тебе одному!» Но он добавляет еще одну фразу, которой нет в хабадских источниках и которая обладает большим собственным смыслом. Выделим вставку курсивом: «Владыка мира! Я пожертвую всем, что есть в Твоем мире, Твоим Садом Эдемским и даже вратами света. Я уступлю Тебе все, Владыка мира. Я стремлюсь к Тебе, к Тебе одному!» Предполагается, что для достижения высшего единения с Б‑гом необходимо «пожертвовать» мирской жизнью. И действительно, в рассказе Агнона восхождение души героя означает его физическую смерть. Однако, если отбросить вставку Агнона, первоначальное высказывание Шнеура‑Залмана представляет собой отказ от всех уровней духовного откровения, но оно совсем необязательно влечет за собой отказ от земной жизни. Наоборот, в одной версии сказано, что Шнеур‑Залман продолжил: «Я бы погиб давно, но Твоя Тора и заповеди хранят меня!» Он как бы провозглашает, что Тора и заповеди, существующие только в физическом мире, образуют самую крепкую связь с Б‑жественной сущностью, тем самым охраняя Шнеура‑Залмана от духовной гибели.
Обоснование для такого прочтения можно найти во многих хабадских сочинениях. В данном контексте уместным будет процитировать фрагмент из «Ве‑каха», в котором Маараш противопоставляет удовольствие, доставляемое исполнением заповеди в физическом мире, удовольствию, которое испытывает душа в Эдемском саду или в Грядущем мире. В примечании он цитирует высказывание из классической раввинистической литературы, приписываемое Б‑гу: «Мне приятно, что Я повелеваю и Вы исполняете мою волю» . Далее Маараш пишет:
Если мы как следует задумаемся над этим, мы поймем, сколь высоко положение этого [физического] мира (олам а‑зе), в котором человек, сотворенный Б‑гом и скованный ограничениями, способен доставлять удовольствие своему творцу. С другой стороны, вся жизнь в Грядущем мире состоит в том, что только человек получает наслаждение и удовлетворение — и нет никакого сравнения между удовольствием человека и удовольствием, которое испытывает Б‑г. Поэтому удовольствие человека в этом мире тоже возрастет много больше удовольствия от жизни в Грядущем мире… Так что сладостное удовольствие, которое следует получать от того, что мы доставляем удовольствие Б‑гу, исполняя заповеди [в этом мире], несравнимо даже с удовольствием, которое ждет нас в Грядущем мире
.
“].
Другими словами, стремление к одному лишь Б‑гу наилучшим образом удовлетворяется не бегством от мирского воплощения — или даже не мессианским избавлением в Грядущем мире, — а исполнением Б‑жественных заповедей на земле, поскольку это доставляет невыразимое удовольствие и Б‑гу, и людям. Как и в «Отверженном», в «Хаиме Гравицере» главный герой сначала цитирует высказывание Шнеура‑Залмана, оправдывая свои неустанные поиски духовных достижений всех уровней и связанную с этим критику другого хасида, который, кажется, вполне доволен собой и окружающим миром:
Ты уже готов, полон и доволен, и тебе больше ничего не нужно, ни восхождения, ни покаяния (тшува). Ты уже хочешь стать «червячком», ибо довольство собой поистине подобно судьбе червя, ползающего по земле, грязному царству пресмыкающихся гадов. И отсюда лежит прямой путь к кабаку. Даже школьнику известны святые и ясные слова: «Душа человека — светильник Г‑сподень» (ср. Мишлей, 20:27), и, подобно свету свечи, пламя души стремится все время вверх, к корням. И в этом истинный смысл слов Алтер Ребе, да благословенна будет память о нем, которые мы упоминали ранее: Владыка мира! Я не желаю Твоего дольнего Сада Эдемского, горнего Твоего Сада Эдемского я не желаю. Я стремлюсь к Тебе, к Тебе одному!
В интерпретации Гравицера это высказывание отражает неутолимую духовную жажду, и здесь есть явная параллель с рассказом Агнона. Но по мере развития сюжета становится ясно, что неустанное стремление Гравицера ввысь само по себе похоже на опьянение заблуждением, и именно он вот‑вот падет в глубины кабака, как в переносном, так и в прямом смысле .
Вот как сам Гравицер позднее описывает момент падения в исповеди чернобыльскому хасиду реб Нахуму:
Всю правду я расскажу тебе, все начистоту. Всего несколько дней назад я возносился к небесам. Всеми своими двумястами сорока восемью членами я ощущал, что «нет более, кроме Него» (эйн од милвадо). Нет в мире вообще больше ничего, кроме Него. А значит, нечто вроде смерти — это лишь плод воображения. И все мы шли с песнями за погребальными носилками, на которых лежал мой единственный сын [Йоселе], чтобы похоронить смерть. Но вот посреди этого воодушевления сердце мое против моей воли стало оплакивать моего почившего сына. Глаза мои омрачились, и я не мог больше выдерживать этого. Если смерть — лишь фантазия, то скорбящее сердце — тем более фантазия. А если так, то почему же я не могу сохранить твердость? Понимаешь ли ты? Я хороню смерть, а сердце и плоть хоронят меня. И вмиг я понял, что и мое воодушевление есть не что иное, как казуистика плотской страсти, вопль кипящей крови, которая требует чистого спирта и страстного воодушевления. Иными словами, я был просто пьян этим эйн од милвадо .
Восхождение Гравицера сначала приводит его в такое состояние, которое отвергает любую земную реальность и лишает ее всякого значения. Его акосмические поиски Бога — это своего рода эскапизм, он закрывает глаза на мир и его тревоги, а не осмысляет или исцеляет их, обращаясь к Б‑гу. Перед лицом смерти единственного сына его падение не дает ему утешения, а приводит к отрицанию. Когда невыразимая сила личной трагедии берет над ним верх, его акосмическая вера распадается. Воя, как подбитый зверь, он бежит с могилы Йоселе, даже не сказав кадиш, как положено скорбящему .
Противоположность Гравицеру составляет его овдовевшая невестка Лея. Перед похоронами она скорбит у тела молодого мужа. Внезапно появляется Гравицер в окружении восторженных приятелей: «Лееле! — восклицает он. — Зачем тебе плакать. Вместе с Йоселе мы похороним смерть… давай зажжем свечи, чтобы отлетела душа смерти… В тебе, как и во мне, горит вечный свет эйн од милвадо» . «Ужасная тоска» Леи моментально улетучивается, и она, «сияя», идет на кладбище за телом своего мужа, чтобы принять участие в похоронах. Лея, в отличие от Гравицера, не переживает никакого слома и не страдает от кошмаров. Описанием ее спокойствия Шнеерсон заканчивает первую часть «Хаима Гравицера», впервые опубликованную отдельной книгой в 1922 году:
В доме Йоселе было темно. Дети уже погрузились в сон. Лея одна сидела у открытого окна и мечтательным взором, в котором горел тихий огонек, смотрела в ночную тьму. Яркие звезды, коим несть числа, ибо их действительно невозможно сосчитать, сияли с неба, освещая землю <…> Небо и земля, деревья и трава — все стояло без движения, все было зачаровано. Тихая песня, такая тихая, что она возносила душу к Б‑гу, разливалась по великой ночи. Слегка склонившись, Лея приложила руки к сердцу. И только Б‑гу известно, что внутри нее вечно звучала великая мелодия — эйн од милвадо, эйн од милвадо!
Лея ощущает единство Б‑га в виде имманентного присутствия, пронизывающего все многообразие земной жизни, освещающего ее душу и утешающего ее разбитое сердце. В первоначальной версии романа Шнеерсон оставляет нас с этим образом, предполагая, что простодушие Леи позволяет ей постичь внутреннюю мистическую истину, которая ускользнула от Гравицера со всей его страстью, молитвой и учением.
Вторая часть романа начинается с подробного описания того, что произошло в ту ночь с Гравицером. Ему кажется, что деревья и трава еретически отрицают эйн од милвадо, и он бранит их, выкрикивая: «Что бы ни случилось с Хаимом Гравицером, случится, а вы, деревья и трава, небо и земля, вы‑то уж точно знаете, что ничего нет, кроме Него… эйн од милвадо!» Гравицер сломлен реальностью мира, реальностью смерти, и вопрос, который будет стоять вплоть до самого конца романа, — сможет ли он найти исцеление и если сможет, то как.
Странствия Гравицера уводят его из мира Хабада, и там он пробует несколько другую форму религиозного эскапизма, более традиционный талмудизм, который исповедуют миснагеды («противники» хасидов»). По пути он вступает в спор с нерелигиозным евреем, который осуждает и хасидов, и миснагидов. Он не утрачивает собственной хабадской идентичности и мировоззрения. Но он приходит к признанию ценностей, которые нашел в других формах еврейской жизни, и даже, похоже, усваивает некоторые из этих ценностей, изменяя и воссоздавая себя в процессе борьбы и синтеза.
В отличие от других неохасидских авторов, которые использовали хасидизм, чтобы оправдать собственный разрыв с традиционными формами еврейской учености и жизни, Шнеерсон, похоже, использует главного героя своего романа как персонификацию собственных усилий по сохранению хабадской идентичности в условиях освоения и адаптации знаний и культурных практик, почерпнутых не из хабадской традиции. Как показала Масор, Шнеерсон пытался создать синтез хасидизма и науки, сформулировать универсальное психологическое и педагогическое видение, которое, как он надеялся, поможет людям исцелить душу . Мне кажется, что основанием для этого синтеза и для Гравицера, и для Шнеерсона послужила фундаментальная вера в хабадский принцип Б‑жественного единства, в то, что «нет никого, кроме Него». Именно этот принцип позволяет им, каждому по‑своему, выдержать столкновение с окружающим миром; увидеть, что внешнее можно включить во внутреннее; увидеть, что разнообразие, казалось бы, конфликтующих друг с другом образов можно синтезировать и устранить противоречие с единством Б‑га. Во всех взлетах и падениях, которые переживает герой книги, хабадский лозунг «эйн од милвадо» придает и ему самому, и автору силу продолжать борьбу.

Помимо диалектики акосмизма и внутреннего мистицизма — воплощаемых Гравицером и его невесткой Леей, — параллельно в романе присутствует диалектика интеллектуализма и чистой веры. Хотя в более ранних хабадских текстах эта тема не получала большого освещения, она приобрела огромное значение в проповедях и письмах дальнего родственника Шнеерсона раввина Йосефа‑Ицхака Шнеерсона из Любавичей (1880–1950). Они близко познакомились в период после изгнания раввина из Советского Союза в 1927 году и, очевидно, высоко ценили друг друга . Вот характерное противопоставление этих типологий, взятое из неформальной речи, произнесенной раввином Йосефом‑Ицхаком в 1928 году:
Поскольку такие [простые] люди не выражают себя через интеллект и эмоции, то что же тогда они собой представляют? Только ту сущность, которая находится внутри… Человек, чья личность облечена в формы интеллекта и эмоции, [наоборот], связан формами, навязанными ими. А простых людей не связывают никакие внешние обличья, и их служение Б‑гу исходит от самой сущности .
Главный герой «Хаима Гравицера» — интеллектуальный и эмоциональный гигант, и все же ему недостает сущностной целостности, которую лучше всего воплощает в себе Лея . После всего, что пережил Гравицер, в конце книги кажется, что сердце его так же разбито, как и в тот момент, когда он уходил с могилы сына. Но ему все‑таки удалось достичь какого‑то мучительного покоя, и кажется, что он настроен попытаться восстановить отношения с женой Сарой. Сара, в свою очередь, рассказывает ему о простой и светлой вере Леи. Перед падением Гравицера, когда Лея стояла возле тела покойного мужа, она прониклась «простым и в то же время потрясающим» осознанием того, что «жизнь и смерть, боль и радость, замкнутость и слияние переплетаются, как волны, в этой великой песни… песни эйн од милвадо» . Невзирая на тяжесть утраты, она восхищается святостью и ценностью, которые пронизывают «весь мир, всю жизнь» .
Большая часть эпилога романа посвящена истории Леи, ее воспитанию до вступления брак и ее жизни после смерти мужа. Гравицер находит исцеление только в последней сцене, когда приходит Лея, держа на руках его внука:
Увидев Хаима, она сильно обрадовалась.
Скромно и вежливо склонив голову, она простерла руки в детской искренности и произнесла святые слова, которые с самого дня трагедии проникли в ее душу, подобно песни пламени:
— Эйн од милвадо!
И тут произошло нечто, чего никто не ожидал.
Радость великой песни, которая (когда Йоселе умер) перешла от Хаима к Лее, вернулась теперь с идеальной простотой и полной ясностью от Леи к Хаиму!
Ясно и просто Хаим вдруг увидел, что никакие сомнения и противоречия, никакие проблемы и противоборства не могут и не должны бросать тень на великую радость души. Мы все должны делать в мире все, что можем, и даже больше. Мы должны постоянно биться за себя и за весь мир. Но в каждом усилии, в каждом вздохе, даже в глубочайшем отчаянии и смятении нужно всегда чувствовать и ощущать, ни на секунду не забывая, вечную великую песнь эйн од милвадо.
— Эйн од милвадо!
Заключительный абзац представляет собой своего рода мини‑манифест, в котором выражена основная идея автора. Одновременно он содержит краткое изложение философии жизни, которую проповедовал предок автора раввин Шнеур‑Залман из Ляд в книге «Ликутей амарим — Танья» и которую разделяет хасидизм в целом: мы можем справиться с трудностями земной жизни и преодолеть их, только радостно сознавая, что мы сами и все происходящее в мире пронизаны Б‑жественным присутствием . Для кого‑то, как для Леи, это знание представляет собой интуитивную и аксиоматическую веру. Другие, как Гравицер, приходят к нему, пробившись через толстый фасад интеллектуального, эмоционального, идеологического и духовного тщеславия.
Часть 3: Бунт и религиозность. «Хаим Гравицер» в переводе на иврит
Хотя роман «Хаим Гравицер первоначально был написан на идише, полностью он был издан только в переводе на иврит Авраама Шлёнского. Шлёнский получил известность не только своим оригинальным литературным творчеством, но и переводами на иврит Шекспира, Пушкина и других классиков. Критики указывали, что Шлёнский наделял свои переводы собственной литературной эстетикой, придавая им неповторимый характер . Действительно, рассуждая об «искусстве перевода», сам Шлёнский говорил, что «поэтическую точность формируют мелодика, формы, ритмы, паузы — а совсем необязательно значение слов <…> Язык людей состоит не из словарей или лексиконов. Язык народа отражен в его биографии». Шлёнского интересовало не столько точное значение тех или иных слов, сколько возможность уловить «сокровищницу ассоциаций» и почувствовать резонанс того, «как народ радуется, как он плачет и как он живет — короче говоря, его духовной и физической жизни» .
В переводе «Хаима Гравицера» Шлёнского появляются библейские и раввинистические цитаты и аллюзии, которых нет в оригинале, что придает переводному тексту более элегантный вид, чем в оригинале. Тем не менее эстетика идишского текста сохранена, хотя, может быть, и в несколько ностальгическом ключе. Поэтому, возможно, нас не удивит успех переложения, сделанного Шлёнским. В конце концов, он стремился выразить на иврите духовную и физическую жизнь собственного народа, язык и культуру собственной семьи. Внимательное изучение его работы над романом обогащает привычный образ Шлёнского как человека, озабоченного исключительно формированием новой сионистской литературной эстетики и питающего неприязнь к диаспоре. Мы согласны с аргументом Наоми Бренер о том, что «хотя Шлёнский повторял сионистскую мантру о том, что идиш — язык диаспоры и ему нет места в ивритской национальной культуре, он вписывал идиш в свою поэтику и поэзию, демонстрируя личные и эстетические привязанности, отказаться от которых было гораздо сложнее» .
Исследователи уже отмечали хабадские корни Шлёнского и тот факт, что в детстве он и его семья поддерживали тесные связи с соседями и родственниками Шнеерсонами, чей старший сын позднее получит известность как Любавичский Ребе — раввин Менахем‑Мендл Шнеерсон. Исследователи также обращали внимание на то, какое выражение получили в литературном творчестве Шлёнского темы религии и секуляризма, традиции и современности . Гораздо меньше исследователи занимались тем, какое именно влияние оказало на него хасидское воспитание и хасидские идеи . Более того, отношения с упомянутым родственником — как личные встречи, так и переписка, — которые он поддерживал во взрослой жизни, никогда не рассматривались в связи с его литературным творчеством . В его произведениях можно найти аллюзии, связанные с хасидизмом и хасидскими деятелями, а также не вполне однозначные отсылки. Но перевод «Хаима Гравицера» представляет собой, возможно, самое непосредственное и самое существенное обращение Шлёнского к хабадской стороне своей идентичности. Поэтому он заслуживает более внимательного рассмотрения в более широком контексте его литературного творчества и биографии.
В очерке 1938 года «Поколение без Дон‑Кихотов» Шлёнский отверг «прозрачность и пресыщенность религии», отдав предпочтение «постоянному голоду» мятежной «веры» . Это очень похоже на состояние Гравицера в начале его неустанного восхождения. В приведенном выше отрывке он обвиняет одного из хасидов в грехе пресыщения: «Ты уже готов, полон и доволен, и тебе больше ничего не нужно, ни восхождения, ни покаяния… довольство собой поистине подобно судьбе червя, ползающего по земле, грязному царству пресмыкающихся гадов» . Впасть в опьяняющее состояние самодовольной религиозности означает для Гравицера попасть в отвратительные объятия духовной смерти. Позднее постоянное повторение, что «нет никого, кроме Него» («эйн од милвадо») приводит его к мятежному отказу принять смерть Йоселе: «…в разгар величайшего воодушевления он внезапно бежал от могилы, как грешник, даже не сказав кадиша» . Даже признавая: «Я павший человек», он упорно настаивает на своей независимости и не желает отказываться от представления о всепожирающей природе Б‑га:
Нет! Я не отдам Тебе своей души, Владыка вселенной… Даже если Ты запрешь передо мной все ворота назад, я головой пробью их… Я не прошу милости и не хочу Твоего Грядущего мира. Падший и пропавший, еврей‑грешник, я буду служить Тебе всем, что у меня есть… эйн од милвадо! Нет, нет! Я не отдам Тебе своей души!
Вполне возможно, что в образе «падшего» Гравицера» Шлёнский увидел персонификацию собственной позиции «упорного противоречия Б‑гу… противостояния… той величайшей ереси, которая и составляет истинную религиозность» . В более раннем очерке Шлёнский явно сопоставлял собственное «противостояние» с деятельностью хасидского лидера раввина Леви‑Ицхака из Бердичева, который отказался подчиниться Б‑жьему суду и придерживался концепции, что Творец судит судом Торы. Цитируя высказывание раввина Менахема‑Мендла из Коцка, Шлёнский осуждает миснагидов, которые любят Тору больше, чем Б‑га .
Но, назвав мятеж и ересь высшей формой религиозности, Шлёнский отошел от позиции Гравицера и от Шнеерсона. Масор удачно противопоставила роль Гравицера как гефаленем («падшего») роли еретика‑маскила Бендета, которого он встречал в доме пани Брайнер. Она отмечает, что, «защищая хасидизм от Бендета, Хаим неосознанно начинает заново находить цель в жизни и переживать персональный тикун. Он понимает, что, хотя он гефаленер, у него в жизни есть цель, и эта цель — подняться вновь; его великая йериде (падение) в конце концов приведет к алие (восхождению)» . В случае Шлёнского, наоборот, кажется, что мятеж — это не просто шаг на пути к восхождению, а некая своеобразная форма религиозного восхождения. В диалоге с Бендетом Гравицер говорит, что единственный путь к исправлению для еретика (апикойрес) — это опуститься до состояния гефаленем .
По мере развития сюжета Гравицер приходит к выводу, что, для того чтобы восстать после падения, он должен погрузиться в изучение и тщательное соблюдение сухого легализма, характерного для миснагидской учености:
Я тону, Г‑споди спаси меня, в собственном болоте… А когда человек тонет в болоте, хочет он того или нет, возвращается и ищет большую дорогу. Может быть, мне еще удастся спастись. Я тотчас же встану и убегу отсюда. Туда, туда, к сухим миснагидам. Хасиды требуют вдохновения и радости, плясок и винных паров. А миснагиды умеют служить Б‑жьему имени на сухой и мощеной дороге .
Но даже когда он приходит в миснагидские города, сладкий голос Бааль‑Шем‑Това звучит в ушах Гравицера: «Слушай меня, возлюбленный мой Хаим, в истине и сиюминутной действительности эйн од милвадо» . Можно предположить, что Гравицер вот‑вот дойдет до более сложной идеи (и эта идея охватит его мятежный дух), что «сухая и мощеная дорога» — это верный путь, по которому можно вернуться к Б‑гу и уверенно заявить, что «нет никого, кроме Него». Иначе говоря, до сознания Гравицера дойдет, что экстатические эмоции Алтер Ребе: «К Тебе одному я стремлюсь!» — полнее всего реализуются в его же словах: «Я бы погиб давно, но Твоя Тора и заповеди хранят меня!»
Похоже, что именно энергия этой диалектики — между акосмизмом и внутренним мистицизмом, между бунтом и религиозностью — в конце концов заставляет Гравицера вернуться «к святому источнику Хабада, к Ребе, к миру Хабад‑Любавич, откуда его душа всю жизнь черпала силу» . Однако возвращение не означает отказа от идентификации себя как падшей души или от четкого видения духовных и этических недостатков, свойственных как хасидам, так и миснагидам. Тем не менее наступает момент, когда он не может выдержать «горячего желания переживающей экстаз души, которая стремится в Любавичи, чтобы изведать хасидский вкус гибнущей души… Но как ему испытать двекут, хасидское вознесение души, если в самом этом опыте он чувствует свое падение? И на этот вопрос он не может дать себе искреннего ответа» .
Позволив себе поговорить о том, о чем не смел говорить Гравицер, можно предположить, что речь здесь идет о невозможности свести человеческое бытие к готовой бинарной системе бунта и веры. Альтернативой к позиции «или‑или» может служить движение между двумя этими полюсами. Похоже, что Фишлу Шнеерсону именно эта альтернатива представлялась синтезом. А у Авраама Шлёнского манифест состоял в усвоении противоположных идентичностей и их объединении в «той величайшей ереси, которая и составляет истинную религиозность». Это не классическое неохасидское порывание с традицией, а, скорее, хасидское движение к Б‑гу через посредство бунта. Шлёнский выразил это настроение в поэтической форме в стихотворении «Мятежный сын»:
Ты удалился от меня по дороге,
На которой ссорились звезда с крапивой?
Вернусь ли я еще к себе в вечерний час
Целым
И невредимым
И единым?
Или же этой ночью меня найдет моя страсть
В сердце потрясенного поля, —
До тех пор, пока Отец милосердия не признает меня:
Это сын Мой —
Мой мятежный
Авраам!
И мы оба услышим Его слова,
Как Он молчит наедине с моим сыном:
«Я любил Своего сына, ибо он взбунтовался,
Мятежный —
И потому он
Сын Мой!»
Использование в стихотворении собственного имени автора придает ему определенный оттенок автобиографичности. Действительно, хотя Шлёнский явно пошел по пути бунта, внимательный анализ его жизни и творчества показывает, что его бунт тоже имел диалектический противовес в виде постоянной гордости своим хасидским происхождением. В 1959 году, вскоре после получения премии Бялика, Шлёнский дал интервью журналисту газеты «Маарив» Рафаэлю Башану. Его ответ на вопрос о первой встрече с Хаимом‑Нахманом Бяликом стоит процитировать полностью, поскольку он прекрасно иллюстрирует, до какой степени хабадская самоидентификация переплеталась у него с самоидентификацией как литератора:
— Моя первая встреча с Бяликом?
Шлёнский выпрямился. Тут же он, сам того не замечая, застегнул кофту, поправил воротничок и бросил беглый взгляд на ботинки — как человек, который готовится к важной встрече. Он ведет рассказ легко, воскрешая в памяти каждую деталь, каждое движение, каждый отголосок:
— Это было кипучее время, время первопроходцев, хорошее время. Я жил в песках возле Тель‑Авива, в какой‑то дыре. Из моего окна видны были надгробия старого кладбища. В тот день ко мне приехал из Галилеи мой брат, и мы решили: «Сегодня вечером мы празднуем! (С широкой улыбкой и искренней гордостью.) Мы из хабадской семьи! Мы бьем посуду в буквальном и переносном смысле. Ну, мы сели и стали петь и танцевать и пить, и вдруг глядь — кто‑то идет к нам, тяжело ступая по песку.
Я сразу узнал его: Бялик! Мой брат и другие гости [не поверили мне и воскликнули]: «Нет!» И мы опять закружили в экстатическом хороводе (махоль шель двекут), и мой брат случайно втянул Бялика в центр круга, и он плясал и плясал, пока не выдохся. Мы все выпили по стакану, и тут Бялик стал говорить о воплощении мотивов, об интонации песен, о том, что каждая песня, которая попадает к нам, даже самая нееврейская, становится еврейской, приобретая изюминку и тонкость «идишкайт»! А мой брат и другие гости, которые не знали, кто перед ними, кивали друг другу, как бы говоря: неплохо, неплохо! Вот пришел простой еврей, обычный человек без претензий, а с уст у него слетают жемчужины — удивительно!
Для Шлёнского этот момент явно имел большое значение. Пространное описание этого эпизода отшлифовано рассказчиком, и в нем нет случайных деталей. Поэтому особенно примечательно, что Шлёнский, похоже, сознательно рисует всю встречу с Бяликом — и последовавшее за ней вступление в высшие круги ивритского литературного общества — как нечто, «случайно втянутое» в хасидский танец, составлявший главное содержание его внутренней жизни.

В конце 1950‑х или в начале 1960‑х Шлёнский совершил паломничество в Бруклин, новую резиденцию хабадского двора, и навестил ребецн Хану, мать седьмого ребе, у нее дома, а также встретился с самим Ребе . Начавшаяся вслед за этим переписка между ним и Ребе предполагает, что были и другие визиты. Следующий отрывок взят из ответа Шлёнского на письмо, в котором Ребе поздравлял его с семидесятилетием:
С взволнованной душой получил я Ваше письмо <…> и в сердце моем воскресли наши екатеринославские дни… И в душе моей вновь возникли часы, проведенные в беседе с Вами в Ваших частных покоях в Бруклине несколько лет назад. Множество отголосков из этой беседы попали на страницы моего последнего поэтического сборника «Из стихов длинного коридора», который я посылаю Вам сегодня…
Из этих слов явствует, что их беседа состояла не только из ностальгических воспоминаний, но была полна истинной глубиной и духом, раз отголоски ее слышны в написанных позднее сочинениях Шлёнского. Это предположение получает явное подтверждение в письме, написанном Ребе двумя годами позже, в котором он благодарит за присланное десятитомное собрание сочинений Шлёнского. Дарственную надпись на первом томе Шлёнский закончил словами: «…от родственника по плоти (שְׁאֵר בשרך) вознесшемуся духом (שְׁאָר רוחך)». Ребе ответил, что они еще и родственны духом (שְׁאֵר רוח):
Я хочу сказать <…> в продолжение нашей беседы, состоявшейся, когда Вы были здесь, что я верю в то, что Вы верите, что мы оба верим — как говорится в известном выражении, полной верой — в те фундаментальные принципы, которые воплощены в триаде: Израиль, Тора и Г‑сподь…
Далее Ребе дает понять, что он признает, насколько разную жизнь они ведут на сторонний взгляд. Но он настаивает, что на «сущностном», «духовном» уровне они стоят рядом, и выражает надежду, что открытым выражением этого общего духа стало стихотворение, которым открывается собрание сочинений Шлёнского:
Сущностное и внутреннее неизбежно бунтуют против внешней оболочки, которая их ограничивает, и они находят для себя выражение. Не так важно, было ли это сознательно, но Ваше собрание сочинений открывает [стихотворение] «Откровение» (гитгалут), «и отрок служил Г‑споду… говори, ибо слушает раб Твой» , и только потом начинается сам сборник. Я уже сказал, что надеюсь, что это не случайно, тем более что это не только мое наивное толкование…
Это обращенный к Шлёнскому призыв «взбунтоваться» против «внешней оболочки», служа Б‑гу и слушая Его в традиционном смысле, тем самым позволяя внутреннему духу найти внешнее выражение. В других посланиях Ребе еще более прямо говорит об этом. Он был чуток к восприятию Шлёнским себя как взбунтовавшегося хасида и хотел спровоцировать еще один бунт против того, что стало к тому времени новой традицией светского еврейского литературного общества .
Как указывал сам Шлёнский, его колебания по поводу этого приглашения получили отражения в упомянутом поэтическом сборнике «Из стихов длинного коридора», в который входит рассмотренное стихотворение «Мятежный сын». А вот последняя строфа первого стихотворения из этого сборника, которое называется «Между двумя берегами»:
И спор будней и праздника.
И сомнения, отойти или приблизиться.
И всегда дистанция
Будет равна натяжению лука .
В конечном счете «дистанция» оказалась для Шлёнского слишком большой, но «натяжение» явно присутствовало. Глубина диалога с Ребе свидетельствует, что Хабад для него не остался в прошлом; он оставался неотъемлемым элементом его духовной жизни и литературного творчества, и эта сторона заслуживает дальнейшего исследования. Кроме того, это значит, что хасидизм не следует рассматривать лишь как явление, предшествовавшее возникновению современной еврейской литературы. Наоборот, сам хасидизм воплощал и продолжает воплощать сложную матрицу литературных и идеологических траекторий, на которых привычные пути традиции следуют рядом и пересекаются. И движение по этим траекториям еще не завершилось. Особенно когда речь идет о Хабаде — ведь внутренние и внешние проявления его литературной традиции никогда не расходились полностью. В жизни и литературном творчестве Фишла Шнеерсона и Авраама Шлёнского и в переводе «Хаима Гравицера» с идиша на иврит продолжается парадоксальный диалог между традицией и современностью, между мятежным духом хасидизма и ограничениями его религиозных законов. По словам современного исследователя и поэта Эллиота Вольфсона, этот парадокс нельзя назвать новым, поскольку он характерен для еврейского мистицизма вообще:
Отдельный путь еврейского мистического опыта выводит за границы этой конкретной традиции, но одновременно он заставляет вновь и вновь идти по этой тропе и искать выход. Если человек задумывается над тем, чтобы идти по тропе, чтобы пройти ее до конца, это значит, что он сбился и никогда уже не пройдет до конца. Чтобы пересечь тропу закона, нужно следовать по тропе закона .
Этот парадокс был свойственен Хабаду с самого начала, и его изучение, как мы увидели, было целью и путешествия Гравицера. Автор «Ликутей амарим — Танья», чьи лирические речи вошли в «Ликутей Тора», написал и «Шульхан арух а‑рав», новую редакцию кодекса еврейского права. Мы уже отмечали, что его внук, Цемах Цедек, получил имя по названию сборника алахических респонсов. Современные посланники Хабада, шлухим, отличаются от всех прочих еврейских активистов тем, что для них равно большое значение имеет трансцендентный дух каждого человека и ограничения алахического ритуала. 
Оригинальная публикация: Traveling and Traversing Chabad’s Literary Paths: From Likutei torah to Khayim gravitser and Beyond

Рабби Шнеур-Залман из Ляд

Основные направления в учении хасидизма


