23 октября на 64 году жизни скончался автор журнала «Лехаим», литературный критик Леонид Кацис. В память о коллеге мы публикуем подборку его материалов, выходивших в нашем журнале в разные годы. Сегодняшняя публикация – о Максе Броде, писателе и философе, представителе «пражской школы», ближайшем друге Франца Кафки.

В 2007 году на русском языке вышел перевод книги Макса Брода «Пражский круг» . Книга продолжила знакомство российского читателя с той стороной творчества этого летописца немецко-еврейской межвоенной Праги, которая практически полностью заслонила его собственные художественные, философские и музыкальные произведения. Что, впрочем, немудрено. Ведь именно Брод сохранил и издал творческое наследие своего ближайшего друга, Франца Кафки, и написал его биографию, напечатанную практически на всех мировых языках, в том числе дважды на русском.
Книга о пражском круге, куда входили и Кафка, и Брод, – это взгляд на свою центрально-европейскую юность из далекого Израиля. Такую возможность автор получил, покинув Прагу буквально в день начала ее немецкой оккупации, унесшей впоследствии жизни слишком многих его друзей. Отчасти позиция Брода напоминает позицию Ильи Эренбурга в книге «Люди. Годы. Жизнь». Тот буквально забросал советского читателя, изголодавшегося за годы «борьбы с космополитизмом» по европейской культуре, незнакомыми именами и названиями.
«Пражский круг» производит такое же впечатление. Ведь по огромному, занимающему треть книги библиографическому указателю, в том числе по списку книг о самом Броде и его литературном окружении, ясно видно: русскому читателю знакома едва ли десятая часть не произведений даже, а просто имен упоминаемых писателей, издателей, журналистов, деятелей культуры. Казалось бы, книга эта – сугубо для читателя немецкоязычного.
Однако в статье-послесловии израильского исследователя Андреаса Брахера «Макс Брод между культурой немецкой Праги и сионистским национал-гуманизмом» отмечается:
«Как самостоятельный автор Брод исчез не только из общественного сознания <…> но также и из сознания сугубо литературной общественности. Он сошел на нет вместе с Центральной Европой, симптоматический образ которой он собой представлял. Ее политическое устройство <…> было разрушено первой мировой войной, ее культурная жизнь погибла во вторую мировую, а тлеющие останки были окончательно погребены во время «холодной войны» и под игом коммунистических режимов <…> будучи немецким (немецкоязычным) писателем, живущим в славянском окружении, он (Брод. – Л. К.) принадлежал к той немецкой культурной стихии, которая вплоть до 1945 года действовала на пространстве между Германией и Россией, но после ужасов второй мировой войны была почти полностью истреблена с помощью ряда насильственных мер…»
Именно специфическое положение славяно-германо-еврейской Праги – точно посередине между Россией и Германией – и периодическое нахождение ряда районов Австро-Венгрии в составе России создает особую оптику восприятия работы Брода и позволяет одновременно увидеть в проблемах евреев Австро-Венгрии отражение аналогичных проблем хорошо нам знакомых русских евреев, ставших непререкаемыми классиками русской культуры ХХ века. Это Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Илья Эренбург, или философы Арон Штейнберг, Лев Шестов и их современники, или прозаик, публицист и сионистский мыслитель Владимир (Зеэв) Жаботинский. Ни завершать, ни продолжать этот список мы не будем. Он у каждого свой.
Что же касается собственно членов пражского круга, то сегодня, не зная Кафку или Майринка, считать себя европейцем невозможно. Впрочем, у нас вполне допустимо различать еврейскую или каббалистическую составляющую в творчестве европейских писателей. А вот искать потенциальную связь с еврейской культурой, мистикой у их российских ровесников и писателей, питавшихся из этих же духовных источников, или ориентироваться на соответствующие синхронные европейские образцы – если не предосудительно, то, по крайней мере, не принято.
Именно поэтому так важно читать книгу Макса Брода по-русски. Ведь в ней чуть ли не походя решаются вопросы, до сих пор мучающие исследователей русской и русско-еврейской литературы: проблемы бикультурности, национального творчества на ненациональном языке, места и удельного веса еврейской и иудейской составляющих в творчестве писателя или поэта, степени осознанности именно национально-религиозной проблематики, отношения к сионизму и т. д.
Прежде всего Брод довольно подробно рассказывает, как формировалась та особая духовная среда, которая дала миру будущих немецкоязычных классиков-евреев.
И начинает он с круга Генриха Гейне. Жена поэта, госпожа Матильда, долго не могла поверить, что окружавшие ее остроумцы – евреи. В то время как друг Гейне Альфред Мейснер (причем его самого считали в этой компании евреем, хотя он-то им как раз не был) со смехом относился к рассуждениям о том, насколько можно судить по этому кругу остроумцев о характере немецкого юмора, и раскрывал Матильде происхождение одного за другим Вейлей, Конов и прочих: «“О нет, вы ошибаетесь, они не евреи! – вскричала госпожа Матильда. – Вам меня не обмануть. Чего доброго, вы еще скажете, что Кон [Коэн] тоже еврей? Но Кон в родстве с Анри (Гейне. – Л. К.), а ведь Анри протестант…” Я вдруг замолчал <…> Совершенно случайно я обнаружил нечто, казалось бы, невероятное, а именно: что касается своего происхождения, Гейне ничего жене не сообщил и что она, наивная, как дитя, ничегошеньки об этом не знает».
Такова была первая стадия – внешне полный уход от еврейства. Однако мы хорошо знаем: Гейне в итоге счел, что крещение не дало ему билета в европейскую культуру, для которой он так и остался евреем.
Пражское объединение Брода – «группа из четырех связанных тесной дружбой писателей», «узкий кружок», как называет его Брод. Туда входили он сам, Франц Кафка, Феликс Вельч, Оскар Баум, а после смерти Кафки – Людвиг Виндер. Следует отметить: Вельч и Брод учились в пиаристской монастырской школе, где для мальчиков-евреев были организованы специальные уроки религии, которые вел раввин. Остальные присоединились к «кружку» позднее и шли к сионизму своими путями.
И еще двое учеников пиаристской школы, в будущем – важнейшие фигуры межвоенной европейской культуры. Это, во-первых, все дальше уходивший от еврейства Франц Верфель, который практически предсказал Катастрофу в романе «Сорок дней Муса-Дага», посвященному турецкому геноциду армян. В СССР это произведение было опубликовано лишь в начале 1980-х годов, да и то в Ереване. И не случайно. Параллели, и не только с турецким или немецким режимами, приходили в голову читателя без всякого труда…
Второй персонаж – Макс Штайнер, ставший символом еврейской самоненависти, или, проще говоря, еврейского антисемитизма. Он в итоге обратился в католицизм и покончил с собой. А всего за три года до прихода Гитлера к власти и до начала конца той культуры, о которой мы ведем речь, вышла в свет знаменитая книга Теодора Лессинга «Еврейская ненависть к себе», одна из глав которой посвящена Штайнеру.
Скрывавший даже от жены свое происхождение Генрих Гейне и самоубийца католик еврей-самоненавистник Штайнер представляют собой два полюса ухода из еврейства. А вот Макс Брод и Франц Кафка – уже другая крайность, на сей раз – еврейская. Оба они были сионистами. А этот полюс противостоит тем ассимилированным евреям, которые готовы таковыми оставаться, однако ни культурной, ни политической связи с еврейством поддерживать не желают. Подобное многообразие не только потенциальных, но и реализованных жизненных позиций позволяет Максу Броду со всей решительностью заявить, что каким-то специфическим гетто, отгороженным от мира тройной стеной (иудейской религией, немецким языком и принадлежностью к буржуазии), пражский круг не был.
Рассматривая старшее литературное окружение, Брод касается фигур типа Фрица Маутнера, которые «не раздумывая, почти без всякого усилия причислили себя к немцам и фанатично утверждали немецкий национализм». Вершину этого периода Брод видит в поколении 1819 года, захваченном жаждой ассимиляции: «Это была вершина пути, на который в 1819 г. в Берлине ступила молодежь – студенты и выпускники университетов, интеллигенты, – создав “Общество еврейской культуры и науки”. Среди них были Цунц, Генрих Гейне, Эдуард Ганс и др. Дерзкая молодежь желала объединить еврейство и ассимиляцию. <…> Из двух задач… одна – еврейство – осталась за флагом. Историк Залман Рубашов (З. Шазар, третий президент Государства Израиль) совершенно справедливо спрашивает: “Не кроется ли причина неуспеха в двойственном характере самой задачи, который делает ее неразрешимой?” (1918)».
Нетрудно видеть, что аналогичные процессы начались в России лет через 80–85 после германской вершины ассимиляции. Маутнер в 1919 году отказался участвовать в создании памятника убитому в Мюнхене Густаву Ландауэру, социалисту и сионисту. Итоги не менее болезненного процесса на русской почве: призыв к евреям раствориться в других народах и христианстве, прозвучавший в «Докторе Живаго», и жесткое неприятие создания Государства Израиль. Однако этот путь радикальных русских ассимиляторов был на три четверти века короче, чем у их немецких предшественников. Поэтому неудивительно, что именно немецко-австрийский пример стал базой и образцом для Пастернака.
Эта глобальная перверсия привела к тому, что некоторые евреи и в Советской России были готовы приветствовать победу Гитлера над Сталиным и СССР. Естественно, таких людей порождали и Прага, и другие города. Брод вспоминает: «Облик ассимиляции карикатурно исказился. Когда нацистские войска заняли Париж и все мы в Тель-Авиве горевали, тревожились о будущем планеты, я на улице, случайно оказавшись за спиною двух иммигрантов (судя по выговору, оба они были берлинцы), услыхал, как один радостно и гордо сказал другому: “Здорово наши ребята провернули это дельце”. Затертое выражение “не поверить своим ушам” стало для меня непостижимой реальностью». Это явление автор объясняет боязнью, паническим ужасом у таких людей перед всем еврейским и еврейством, к ценностям которого они не причастны.
Сам Брод сформулировал иной, очень интересный принцип отношения между народами и культурами. Он называл его «любовью на расстоянии». Это, с одной стороны, позволяло сохранять еврейскую самость и в писаниях на немецком языке в Германии или Австро-Венгрии, а с другой – уже в Израиле, в разного рода Мошава Германит («Немецких деревнях», как назывался район немецких евреев в Иерусалиме), по-прежнему симпатизировать немецкой культуре и осознавать свое место в мире после Катастрофы, не исключая полностью немецкий элемент из еврейского и уже израильского культурно-национального сознания в первом поколении немцев-олим.
Книга Брода была издана в 1966 г., то есть почти через 10 лет после выхода в свет «Доктора Живаго» Пастернака. Романа, который вызвал острый скандал в Израиле . В нем писатель сравнил еврейский народ с пустой оболочкой, лишенной сердцевины (выделено мной. – Л. К.).
В чисто религиозной традиции соотношение сердцевины и оболочки представляется Рамбаму или Йеуде Галеви соотношением между пророческим ядром Израиля и оболочкой народа. Сионист Хаим-Нахман Бялик говорил о создании новой еврейской нации из языка иврита, назвав свою статью «В оболочке языка» (выделено мной. – Л. К.). Эта терминология вообще была довольно развита в еврейских идеологиях второй половины ХIХ – начала ХХ века.
Тем интереснее, как описал это соотношение Брод, ссылаясь на еврейского просветителя и религиозного реформатора Мозеса Мендельсона, который пытался разделить еврейскую религию на две части. «Он полагал, что разделил их объективно на ядро и оболочку. Ядро носило общечеловеческий характер, являло собой кладезь философских познаний, который демонстрировал заметное, но в известном смысле и настораживающее, то есть обусловленное эпохой рационалистическое сходство с тем, что выявила современная Мендельсону философия <…> По мнению Мендельсона, этого “ядра” было достаточно, чтобы оправдать почетный прием во всеевропейское сообщество. Остаток иудаизма как жизненного уклада – оболочка (выделено автором. – Л. К.), от которой можно постепенно, в течение лет или веков, освободиться, хотя сам Мендельсон в частной своей жизни держался за древние обычаи, вполне осознанно и всерьез. Тем не менее объявлял он их (по крайней мере, в теории, а не на практике) второстепенными, и последствия этого проявились в его же собственной семье, в его детях. (Которые, напомним, поголовно крестились. А Мозес Мендельсон Младший в специальном письме приветствовал крещение своей дочери, специально им воспитанной в христианском духе. – Л. К.) Ведь “оболочка”, сравнимая с оболочкой плода, содержала жизненно важные витамины, национальное, историческое, мистическое наследие еврейского народа, то, что “не именем хранимо”, что “зреет молчаливо”».
Важно для нас и рассуждение Брода о грани между (в его случае) немецким и еврейским, а в нашем – между русским и еврейским. Точнее – по крайней мере для Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака – между русским, немецким, немецко- и русско-еврейским. «Я упомянул столько еврейских авторов не затем, чтобы вынести каждому в отдельности хорошую или плохую нравственную оценку. Эти авторы важны для меня скорее как представители многих, как символы еврейского отношения к немецкому духу и характеру».
В сущности, в России еще не проведены анализ и типологизация разного рода еврейских позиций по отношению к русской и европейской культуре. И эта статья, естественно, не ставит перед собой подобной задачи. Мы лишь обращаем внимание всех заинтересованных читателей на то, как подобная работа была проделана нашими предшественниками. Хотя надо отметить: оценить соотношение Москвы или Петербурга с Прагой не всегда просто. Ведь среди несколькосоттысячной чешской Праги было около 20–25 000 так называемых немцев. А евреев среди них – чуть больше половины. Поэтому они в любом случае ощущали себя меньшинством в славянском городе, с одной стороны, и, да будет нам это прощено, провинцией немецкого культурного мира – с другой.
В то же самое время Петербург и Москва были однозначными центрами русской культуры, куда из немецких интеллектуальных центров возвращались русские евреи, создатели того русско-еврейского наследия, которое привлекает сейчас к себе все большее внимание. Другое дело, что далеко не все творцы русской культуры ощущали себя находящимися в центре событий, поэтому стремились в Париж, Вену и Берлин. Но не в Прагу. А знаменитый «Голем» Майринка стал одним из культовых текстов в России лишь в конце 1920-х, то есть когда родившиеся в 1890-х уже прошли первый этап становления и национально-культурного самоопределения.
Трудно сказать, насколько объективен Брод в следующем воспоминании, ведь он знал и итоги Катастрофы, и судьбы, свою и своих пражских друзей. Однако слова его о предвоенной Праге звучат подобно громовым, но никем не услышанным призывам Зеэва Жаботинского к срочной эвакуации польских евреев в Палестину в самом преддверии Холокоста. Брод пишет: «Я видел приближение беды. <…> У меня оставалось все меньше времени на споры, так как я работал в первую очередь ради того, чтобы спасти все возможное, иными словами, все, что желало быть спасенным в Страну Израиля. Думаю, я словом и примером помог многим тысячам».
Отсюда и острота споров Брода с теми, кто утверждал (да и утверждает сегодня), что друг и биограф Кафки «фальсифицировал» его сионизм. Между тем, Брод спокойно парирует: в письмах к возлюбленной писатель предлагал ей в 1912 году отправиться в Палестину, но то была не страна туризма 1960-х, а место, куда ездили только сионисты. И чуть ниже приводит свою речь о Кафке, произнесенную в Праге 23 июня 1964 года по случаю открытия выставки, посвященной покойному другу: «Истинный сын города Праги, Кафка был глубоко укоренен в пражской почве. Его поэтическая душа была околдована магией старой Праги и многоликости ее обитателей. Истинный сын Праги, он был укоренен в чешской и немецкой культуре, но равным образом – и в древней культуре евреев».
Брод продолжает: «За долгие века изгнания и еще более долгие – полудобровольного полуизгнания евреи достаточно хлебнули и боли, и противоестественных вывихов отверженного бытия. <…> Как справедливо отмечает Гейне в своих “Признаниях”, загнанный еврей, скиталец и бродяга, “сражался на всех полях духовных битв” и всегда (если был преисполнен подлинной идеей еврейства) испытывал солидарность с бесправными, угнетенными, страждущими. И никогда не терял мессианской перспективы на вселенское человечество, на службе которого полагал себя состоящим.
Вот в чем значимость религиозного социализма Кафки, огромного региона его гуманистического еврейского духа, заявляющего о себе со всей искренностью, в исконном смысле – как требование справедливости. Стремиться к этому исконному смыслу в полную силу может лишь еврей, внутренне цельный, нашедший свою родину, свой “замок”; ущербный, ассимилированный еврей на это не способен».
В рассказе о друге Брод завершает сюжет о трагических предчувствиях сионистов перед второй мировой войной, до которой Кафка не дожил: «…интеллект его странствовал сложнейшими путями, нередко запутанными и загадочными. Мой добрый незабвенный друг Георг Мордехай Лангер, автор бессмертной книги “Девять врат” (Devet bran), преподавал ему (и мне) древнееврейский язык, обычаи хасидского мира, и от этого учения тянется нить прямиком к вечным поискам справедливости, что мы обнаруживаем и у Кафки, и в знаменательной пьесе “Окраина” Франтишека Лангера, брата Георга. Мир Кафки простирается далеко, мы только-только начинаем его познавать. Он был пророк. Чуткой своей душой он предощущал кошмар нацистских зверств».
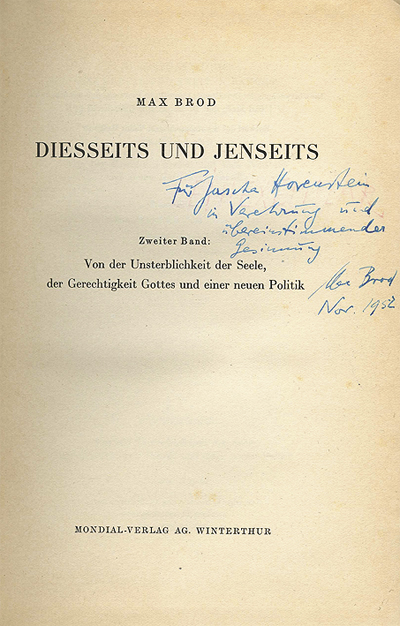
Образ хасидского учителя двух пражских писателей требует особого внимания, какое и уделил его фантастической фигуре сам Брод. Послушаем же благодарного ученика, минимально вторгаясь в его рассказ: «Еще одно яркое пятно в шумной, бурлящей жизнью Праге: Георг (или Иржи Мордехай) Лангер, брат знаменитого драматурга; среди нас он был фигурой броской, нередко вызывающей протест, но для того, кто смотрит глубже, приглашающей к волнительным исследованиям. Коренной пражанин и тем не менее приверженец восточноеврейского хасидизма, он не довольствовался одним лишь книжным знанием. Много лет он провел среди хасидов в Венгрии, при “дворе” галицийского цадика-чудотворца. Вернувшись домой, он, к ужасу давно ассимилированной среди чехов солидной буржуазной семьи, некоторое время ходил в хасидской одежде – шелковом кафтане и широкополой меховой шапке, вроде тех, какие на оперной сцене носят мейстерзингеры <…> В этом наряде Лангер, словно пережиток Средневековья, бродил по улицам современной Праги…»
Читаем дальше: «Лангер писал на чешском, немецком, древнееврейском – подлинный сын Праги и соединяющихся здесь культур трех народов. Слегка беспомощный немецкий язык его книги “Эротика Каббалы” я стилистически подправил, а затем передал книгу в печать <…> Позднее на чешском языке вышла основополагающая работа “Девять врат” (о жизни и обычаях хасидов), которая имеется теперь в немецком переводе Тибергера, а также по-английски. Она займет свое место в ряду посвященных той же теме работ Дубнова, Бубера, Шолема и др.»
Здесь можно с радостью отметить: к сегодняшнему дню хотя бы основные произведения всех трех авторов переведены на русский. А характеристика Лангера поразительно совпадает с уже упомянутыми словами Брода о Кафке. Но судьба учителя сделала еще один кульбит: «Георг Лангер являет собой историческую веху: по всей видимости, он последний (или надолго останется таковым) пражский поэт, который писал и публиковал стихи на древнееврейском… За слиток чистого золота он купил себе место на нелегальном корабле и тайно пробрался в Палестину. После немыслимых перипетий этого путешествия, уже в Тель-Авиве, он в скором времени смертельно захворал. Одно из последних его стихотворений (на древнееврейском) посвящено смерти Кафки, бракосочетанию чистой души с бесконечностью».
Однако советские евреи – и хасиды, и сами коммунисты, – даже за слиток золота не имели возможности сесть на корабль, плывущий в Палестину…
И это еще одно отличие еврейской судьбы в Чехии от советской. Брод то тут, то там цитирует чешские газеты середины 1960-х годов. И по этим отрывкам видно, что у чешских читателей уже в те годы была удивительная возможность слушать доклады, подобные бродовским, и читать о еврейских судьбах своих классиков. А в СССР имена убитых Гитлером и Сталиным писателей возвращались к нам вплоть до перестройки.
Кроме того, советский читатель был лишен возможности полноценного чтения Кафки. И не имел такого проводника, как Макс Брод, по еврейскому культурному миру первой половины ХХ века в России. Если бы такой проводник был, у ценителей творчества Пастернака, Мандельштама, Бабеля и многих других писателей и художников-евреев не возникало бы вопроса о том, что знал или не знал о еврействе, иудаизме, хасидизме, сионизме и т. д. их любимый автор, чей духовный опыт они могли сопоставлять лишь со словами насмерть запуганных старших родных или с собственным опытом тотальной ассимиляции.
А теперь мы хотя бы представляем себе ту литературную германоязычную Европу, на которую ориентировался, к примеру, рецензент иностранных редакций советских издательств, прозаик и переводчик, поэт и теоретик Осип Мандельштам. Теперь мы видим, как на этом фоне выглядит список любимых европейских авторов Бориса Пастернака, начиная с героя «Пражского круга» – Райнера Марии Рильке (которого, как и Густава Майринка, Брод называет «пражанином в изгнании») и до Якоба Вассермана или норвежского писателя Якобсена. Становятся понятными литературные предпочтения и отталкивания у названных выше антиподов, казавшиеся раньше загадочным и невосстановимыми в своей духовной глубине. Вот откуда любовь к еврейской прозе у Мандельштама и презрение к Гейне-поэту у обоих авторов.
Казалось бы, можно лишь порадоваться рассказам чешских мемуаристов, которые были недоступны советским читателям, однако этому мешает одно очень грустное обстоятельство. До входа советских войск в Чехословакию со времени издания «Пражского круга» оставалось чуть менее трех лет. И неудивительно, что просоветские идеологи незамедлительно стали выпускать в СССР книги о сионистских происках антисоциалистических сил в ЧССР. К тому же живущий в Израиле с 1939 года Брод, который явно хотел поддерживать связь со своей бывшей страной, все же не стремился сопоставлять свои впечатления от произведений Кафки с антисемитскими процессами в Чехословакии, которые шли параллельно или последовательно за кампаниями по борьбе с космополитизмом или «делом врачей» в СССР.
Такая жесткая ориентация предчувствий, и своих, и Кафки, исключительно на нацистские зверства понятна и исторически оправданна. Тем более если помнить, что Брод написал свою книгу до Шестидневной войны, когда отношение социалистического лагеря к Израилю еще не претерпело необратимо антисемитских изменений. Однако этого контекста в книге нет. А жаль.
Между тем, в статье преподавателя Еврейского университета в Иерусалиме Лоры Найдич (недавно завершившей издание двухтомника о Пауле Целане) перед читателем открывается богатейший идейный мир самого Брода, отражающий и мир пражского еврейства, о котором, к сожалению, мы по-прежнему мало знаем. Вообще удивительно, что такой писатель даже в три предвоенных десятилетия не привлек к себе внимания советских издательств. Мы говорим именно о первой половине творческого пути Брода. Ибо живущего в Тель-Авиве сиониста и еврейского философа никакой советский читатель и знать не должен был. Не забудем, что в год бегства Брода из Праги в Советском Союзе после подписания пакта Молотова–Риббентропа начались запреты на книги писателей-антифашистов – а к их числу относились и многие герои «Пражского круга». По-видимому, сегодня стоит обратиться наконец и к собственному художественному творчеству Брода: романам и философским трактатам, мемуарам и публицистике.
И еще один момент. Максу Броду действительно повезло прожить так долго (кстати, почти столько же, сколько и упомянутому в начале нашей статьи Илье Эренбургу), сохранить в памяти и передать читателям будущих поколений духовный опыт ушедшей от нас эпохи. Подобные слова в еврейском мире обычно обращают к писателям на идише, которых сегодня без перевода практически никто не читает. Однако «мир, который исчез», как говорил о мире европейского еврейства прокурор на процессе Адольфа Эйхмана, – это еще и высокая еврейская, а порой и космополитическая культура Центральной Европы. Отделить одно от другого очень трудно – настолько часто эти миры пересекались. Как в случае Кафки, национальному самоопределению которого во многом способствовали артисты небольшого идишского театрика, который гастролировал в дни его взросления в Праге.
Вряд ли сегодня кто-то из молодых израильтян, российских или американских евреев вздрогнет, услышав идишскую речь, как Брод – ощущая, что это чем-то похожий на его родной немецкий, но еврейский язык. И вряд ли сегодня вообще возможна тяга к германскому культурно-языковому самоопределению. Хотя, вероятно, для детей тех евреев, что живут в германском мире и ищут себя, опыт писателей типа Брода и его друзей может оказаться важным. Впрочем, рассуждая о том, что в его доме в Тель-Авиве заканчиваются последние немецкие литературные чтения, начатые в предвоенной Праге, Брод, безусловно, надеялся на то, что книги пражского круга, и его собственные в том числе, найдут свое место в будущем. И это время приходит даже в России.
(Опубликовано в №192, апрель 2008)

The Atlantic: Кто получит права на Кафку?

Кафка: введение

