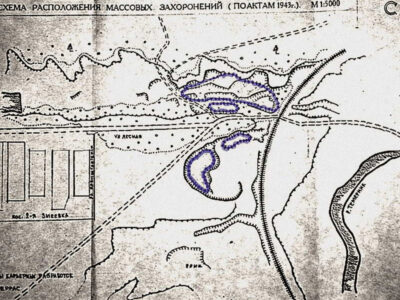Аркадий Ковельман: «Элита должна излучать»
Аркадий Ковельман, историк, исследователь поздней античности и Талмуда, заведующий кафедрой иудаики ИСАА МГУ, — о судьбе еврейского интеллектуала в Советском Союзе, о евреях как общности символической и общности телесной, об инсайдерах и аутсайдерах в иудаике.
Маленький человек в историческом процессе
Я хотел заниматься чем‑то таким гуманитарным, мне было более или менее все равно чем. Например, стихи писать. Я даже писал их лет до 12, пока не сообразил, что Пушкина из меня не выйдет, а на меньшее я был категорически не согласен. И дальше оставалось не так уж много: философия, филология, история. Очевидно, что заниматься, скажем, историей КПСС было западло. А вот античность — это была такая деляночка, огороженная для интеллигенции, чтобы та в ней паслась и предавалась вольным фантазиям и занятиям. И я собирался пробраться в этот маленький загончик и там устроиться ужасно комфортно: носить поэтические свитера и длинные волосы и по возможности еще и бороду и иметь два присутственных дня в неделю, попав в какой‑нибудь академический институт или университет. Таковы были мои художественные планы, хотя рационально я понимал, что это невозможно, что этого не будет никогда, — мне об этом говорили.
 Когда я поступал в университет, было понятно, что, скорее всего, меня никуда не пустят по причине пятого пункта. При этом я поступил — и это было маленькое чудо. На самом деле такие чудеса, такие хронотопы, случались, первый такой хронотоп был после ХХ съезда, когда люди типа Гуревича и ему подобных оказались в Академии наук — в университет их все равно не взяли. Второй глюк произошел между снятием Хрущева и консолидацией брежневского режима, тогда я и поступал — в 1966 году, и у меня было довольно много евреев на курсе.
Когда я поступал в университет, было понятно, что, скорее всего, меня никуда не пустят по причине пятого пункта. При этом я поступил — и это было маленькое чудо. На самом деле такие чудеса, такие хронотопы, случались, первый такой хронотоп был после ХХ съезда, когда люди типа Гуревича и ему подобных оказались в Академии наук — в университет их все равно не взяли. Второй глюк произошел между снятием Хрущева и консолидацией брежневского режима, тогда я и поступал — в 1966 году, и у меня было довольно много евреев на курсе.
Я окончил университет в 1971 году, тогда же были изданы знаменитые закрытые инструкции, которые практически запрещали какой бы то ни было карьерный рост евреев в университетах или Академии наук. Я поступил в заочную аспирантуру и был безмерно счастлив. На работу меня не брал никто. Причем все популярно объясняли, почему не берут, никто не скрывал, это была эпоха относительной свободы. Два года я проваландался в Институте научной информации по общественным наукам, где меня оформляли на два месяца, а потом увольняли, потом опять брали и опять увольняли — по трудовому законодательству нельзя было уволить человека, если он проработал больше двух месяцев. На мое счастье еврейское, туда был назначен академик Виноградов с совершенно жесткими инструкциями, и через два года меня оттуда просто выкинули. Единственное место, куда я смог устроиться в конечном счете, это систематический и предметный каталог Государственной библиотеки имени Владимира Ильича Ленина. При этом я защитил в срок диссертацию, я писал статьи, которые публиковали в «Вестнике древней истории», то есть на человеческом уровне мне никто не ставил рогаток.
Библиотека была страшная вещь. Восемь часов пятнадцать минут каждый день. Я мог там выписать себе что‑нибудь в третий читальный зал и на десять минут, под предлогом ухода в сортир, сбежать и что‑то почитать, я видел то, что проходило мимо меня в библиотечные фонды, мог пробежать глазами какую‑то книжку — были свои преимущества, но в принципе это было ужасно. Писать я мог только ночами и по воскресеньям.
Вся моя жизнь показывает, насколько маленький несчастный человек встроен в гигантский исторический процесс. Я шел абсолютно по линии исторического развития: мне было плохо, когда было положено, чтобы было плохо, мне стало хорошо, когда всем стало лучше, когда началась перестройка. В 1988 году, когда у меня вышла первая книжка, что как раз было неважно, инструкции перестали действовать и профессор Алаев, которому я до сих пор безумно благодарен, взял меня в редакцию журнала «Народы Азии и Африки». Это было национальное освобождение, я об этом уже даже прекратил мечтать к тому времени.
Материализация духов
В конце 1980‑х началась материализация духов.
Тот еврейский народ, о котором я знал до того, был, в терминах американской социологии, aggregate. То есть чисто символической социальной общностью, которая в реальности общностью не является. Например, рабочий класс. Вы знаете, что существует рабочий класс, вы можете вычислить, сколько народу к нему принадлежит, вы знаете его характеристики, но вы не можете его потрогать — нет рабочего класса, который бы шел по улице или пересекал перекресток, — в отличие от таких общностей, как семья или школьный класс. И в конце 1980‑х годов этот «агрегат» материализовался: я увидел еврейский народ воочию — и во всей его прелести, и во всем его безобразии. Это было безумно интересно и в то же время грело душу. Я почувствовал, что я есть не только часть некоего символического сообщества, прописанного в книжках, а я есть часть реального живого тела с реальной живой судьбой. И сладко этой судьбе отдаться.
И на этом деле я, собственно, и пошел читать лекции в Еврейский университет. Надо сказать, что я и до того читал лекции в формате общества «Знание», и это мне доставляло садистское удовольствие: я рассказывал продавщицам и рабочим винзаводов о том, что Иисус Христос был евреем и апостолы тоже. Они выражали искреннее недоумение. И тут я подумал, почему бы мне не почитать такие же лекции своим собратьям по нации, и с этого началась моя деятельность в Еврейском университете, куда меня пригласил сначала Куповецкий читать лекции, а потом Гринберг — быть проректором. И пошло‑поехало.
То, что я со временем стал заведующим кафедрой, — это глюк. Если бы не произошло событий конца 1980‑х — начала 1990‑х, этого бы никогда не было. А кроме того, у меня есть качество, которое происходит от моей же собственной трусости, — это страшное чувство ответственности. Мой отец был абсолютно мужественный человек, ширококостный, с широко разведенными храбрыми глазами, а я вот такой урод уродился. По‑хорошему, мне, конечно, надо было эмигрировать в ранней молодости, но я боялся — не найти себя там, а больше всего боялся того, что на меня обрушится, когда я начну подавать бумаги. Я трус по природе и таковым, в сущности, и остаюсь. И из‑за своей трусости я всегда стараюсь добежать, сделать, расплатиться — и это превращает меня в администратора. То есть в моей слабости, как это ни странно, моя сила — так вот я функционирую. Там, где люди более свободные, типа того же [footnote text=’Рашид Мурадович Капланов (1949–2007) — историк‑португалист и энциклопедист, сооснователь и многолетний председатель академического совета Центра «Сэфер».’]Рашида[/footnote], махали ручкой и как‑то оно само собой улаживалось, я брал рабством, просто рабством — я раб по жизни.
Я бы, конечно, хотел свободы и покоя, хотел сидеть и писать. Это моя мечта. В те времена, когда я мечтал выбраться из Ленинки, я представлял, что приплывает золотая рыбка и меня возьмут младшим научным сотрудником или на полставки младшего преподавателя в Институт культуры. Сейчас я даже не могу вообразить, что бы такое могло произойти, чтобы я избавился от своей работы и при этом не превратился в пенсионера с российской пенсией. Поэтому я даже перестал мечтать, так просто, как лошадь, пришпоренная и зашоренная, иду и не падаю.
Между самоненавистью и избранностью
Мое еврейское самосознание состояло из двух элементов, из которых, я думаю, состояло самосознание очень многих евреев. Первое — это если не ненависть, то крайняя неприязнь к собственному еврейству, поскольку из‑за него происходит масса неприятностей. А второе — абсолютная, непоколебимая уверенность в своей избранности. Никаких оснований для этой уверенности у меня не было. Я не отличался ни языковыми способностями, ни уж тем более математическими, и на скрипочке не играл и слуха у меня вообще не было. Разве что стихи писал в детстве, и даже одно мое стихотворение опубликовал Самуил Яковлевич Маршак в книге «Раннее солнце». И всё. Тем не менее, вопреки всем этим реальным данным, уверенность в своей избранности у меня была и, конечно, была связана с моим еврейством. Когда же я стал заниматься еврейской деятельностью, как первое, так и второе начали у меня испаряться. То есть неприязнь к собственному еврейству испарилась совершенно, оставшись разве что на уровне пастернаковского «и я должен за них отвечать», когда кто‑то из евреев при мне занимается омерзительными вещами, а я ничего не могу поделать, а сознание собственной избранности тем более исчезло, потому что стали более или менее ясны пределы моих возможностей и способностей. Не то чтобы я успокоился — успокоиться я, конечно, не могу, — но это уже не та бесконечная и ни на чем не основанная уверенность.
На практике ничего еврейского я не делал категорически, заставить меня выполнять какие бы то ни было ритуалы — религиозные или светские — очень тяжело. Ненавижу ритуал во всех его формах и проявлениях, причем ненавижу не сознательно, это не есть моя концепция, но я просто не могу его совершать, мне это безумно тяжело. Никакой борьбой за права я тоже не занимался — я испытывал и продолжаю испытывать ко всякой политической деятельности отвращение, смешанное со страхом, никогда в жизни ни в одной стране этим заниматься бы не стал. И вообще я никогда не шагал и не шагаю в ногу.
КПСС как авода зара
А вот в том, что надо создавать еврейскую семью, у меня не было ни малейших сомнений. По тому же самому механизму: я ненавижу «агрегат» и чувствую влечение к телесному Израилю. Я всегда ощущал себя членом своего рода и не мог себе представить, что я это родство оскорблю. Что я оскорблю своих родителей, своих дядей и тетей, а для них женитьба на нееврейке была бы гораздо большим, чем национальной изменой, для них это была бы классовая, идеологическая измена — ради карьеры будущих детей. Это означало бы ровно то же самое, что вступление в КПСС. Ни то ни другое мне бы не простили. Надо сказать, что если я никогда особенно не думал о женитьбе на нееврейке — у меня этот вопрос не вставал, то о вступлении в КПСС в минуты отчаяния я начинал думать, но стоило мне представить, как на это отреагируют мои родственники, как я тут же бросал эту мысль и больше к ней не возвращался. КПСС, в сущности говоря, была воплощением всего — воплощением женитьбы на нееврейке, воплощением мерзости, гадости. Авода зара в худшем виде. Причем не в библейском смысле, где авода зара — это измена всерьез, а в талмудическом, где это значило пойти по пути зла, как это сделал племянник Филона Александрийского, за карьеру и за бабки. И на моих глазах это сделали почти все мои товарищи, многие сокурсники, полностью отдавая себе отчет в том, что они делают.
Я этого не предпринял, чем и обрек себя на аутсайдерство. То есть я вроде бы был античником на протяжении всех 1970–1980‑х: в 1971‑м я окончил университет, в 1975‑м защитился, в 1988‑м вышла моя первая книжка. И все это время я якобы был античником, но на самом деле я античником не был — я был старшим библиотекарем в Ленинке, а потом главным библиотекарем, публиковал какие‑то брошюрки по библиотечным классификациям. Когда я приходил в Академию наук или в МГУ, на меня смотрели или с сочувствием, или с презрением, или просто равнодушно, как на мебель, — я был человеком со стороны, который там делает что‑то странное и непонятное. Я был очевидным аутсайдером, и поскольку я был аутсайдером, я старался притворяться инсайдером, изо всех сил делать вид, что я античник в законе, что я такой, как они, хотя мне было понятно, что я не такой, как они.
Дальше со мной свершился переворот воды в природе, и я стал вроде бы заниматься иудаикой. Но я был, и есть, и буду всегда аутсайдером в иудаике тоже, потому что очевидно, что у меня совершенно другие корни. Я не учился никогда в ешиве в отличие от почти всех моих коллег на Западе. Идеологические мои основания абсолютно другие, почему меня сплошь и рядом не понимают, а я не понимаю их, не понимаю их логики, а если понимаю — я стараюсь о ней писать, я довольно много написал о методологии и ментальности моих западных коллег, чего, наверно, они написать бы не могли, потому что я аутсайдер, а они инсайдеры. Поэтому как я утратил представления о своей избранности, так же я утратил и надежду стать инсайдером.
Инсайдерская иудаика, иудаика в Америке, например, основана на другой идеологии и другой ментальности, на вере в американские либеральные ценности. Все другое. И когда я читаю наиболее мне близкого автора — [footnote text=’Даниэль Боярин — американский исследователь Талмуда, внедривший феминистский и гендерный подход в талмудические штудии, автор книг «Израиль по плоти: О сексе в талмудической культуре» (1993), «Радикальный еврей: Павел и политика идентичности» (1994), «Негероическое поведение: становление гетеросексуальности и изобретение еврейского мужчины» (1997), «Сократ и Толстые мудрецы» (2009) и др.’]Боярина[/footnote], я просто вижу, где у него бурлит то, от чего я прихожу в бешенство. Я понимаю, что то, что я пишу, это точно такая же иллюзия, но, по крайней мере, это мое. Но он — я‑то прекрасно понимаю, что он просто маскирует в античные одежды идеологию и практику американского левого либерализма, что этого не было никогда и это не имеет никакого отношения к исторической реальности.

Фаюмский портрет I–II века н. э. Так называемый «Il bello», «Красавец». ГМИИ им. А. С. Пушкина
Когда я начал этим заниматься, у меня была своя утопия — не хуже, чем у Боярина. Утопия была в значительной степени александрийская: соединить русский гуманитарный интеллектуализм с еврейским гуманитарным интеллектуализмом. Соединить Соловьева, Мандельштама и лучшие достижения европейской цивилизации с Талмудом. То есть сделать что‑то такое элитарное. Меня всегда безумно интересовала тема толпы и интеллектуальной элиты. Я об этом даже написал маленькую [footnote text=’«Толпа и мудрецы в ранней раввинистической литературе» (М., 1996).’]книжку[/footnote]. При этом я никогда не презирал толпу. Наоборот, на мой взгляд, толпа — это лучшее, что есть в массе, в человечестве, поскольку она подвержена идеям в отличие от традиционного народа. Эти идеи могут облечь ее в формы охранников концлагеря и сделать из нее чудовище, а могут, наоборот, привести на баррикады и продвинуть локомотив истории к революции и прочим красотам. Если бы не было толпы, то не было бы, в сущности, ничего хорошего в истории. Но толпа становится толпой, когда она восприимчива к элите, когда происходит вульгаризация элитарных теорий. А элитарные теории, в свою очередь, становятся красивыми и высокими, когда они способны возбуждать толпу. И мне, конечно, всегда хотелось таких теорий, которые бы действовали в обществе, которые бы объединяли общество — мне виделась такая утопия постсоветская. В Советском Союзе, как мне казалось, господствовало быдло. Гегемония этого быдла, вышедшего из деревень и дорвавшегося до водки с селедкой и на этом все загробившего, доводила меня до судорог ненависти. И мне хотелось красивого, утонченного, элитарного, мне хотелось «конституции и севрюжины с хреном», мне хотелось сплошных Аверинцевых вокруг. Казалось, что как раз на том пути, который я выбрал, и можно будет этого добиться. Например, можно будет построить Еврейский университет в Москве, который будет свободен от тех недостатков, которые я видел в МГУ, будет таким рассадником элитарности. Но очень быстро оказалось, что это абсолютная утопия, что ничего этого не будет, потому что не будет никогда.
И в дальнейшем идеология моя свелась к тому, о чем пишет Василь Быков в повести «Дожить до рассвета». Там группа разведчиков пробирается в тыл врага и практически все бойцы погибают, так ничего и не совершив. А молодой лейтенант хочет умереть с пользой для дела, он достает гранату, но взорвать вместе с собой ему удается только немецкого обозника. И он думает: ну что ж, пусть другие возьмут Берлин, а я убью немецкого обозника. Вот и моя утопия состоит в том, что я убью немецкого обозника. Не более того.
Элита должна не толпе, а себе. Она должна нечто излучать. Если она ничего не излучает, она мертва. У меня это слабо получается, но я бы хотел излучать. Причем вы не можете излучать, если вы пусты, но ваш свет никогда не дойдет, если вы не разжуете все это дело. Человек, который занимается научпопом, он в принципе не может быть содержательным. Он не потому пишет научпоп, что хочет быть понятным толпе, а потому, что он ничего другого писать не может, он пуст внутри. А человек, который полон внутри, он пытается вылиться, но при этом сама его полнота ставит препятствие его возможности вылиться. Это объективное противоречие, его невозможно разрешить, и в этом противоречии я живу.
Мои источники не учат чему‑то, они раскрывают себя, раскрывают человека, раскрывают судьбу. Они рассказывают. Это рассказ, это повествование, это осмысление. И то, чего я хотел бы, это вовлечение в повествование и осмысление. Это не проповедь, это попытка не заставить или убедить кого‑то в чем‑то, а вовлечь, сделать участником игры. Эта игра — это все, чем я занимаюсь: и мои первые статьи по папирологии, и мои последние статьи про Талмуд — это все то же самое, вот эта вот игра. Зачем эта игра, я не знаю, но я хочу, чтобы люди в ней участвовали. Мне очень этого хочется. Я сам хочу в ней участвовать. И постольку, поскольку я в ней участвую, я существую. Как только я перестаю в ней участвовать — а это со мной регулярно случается, — на меня нападает дикая хандра и мне плохо.

Голос в тишине. Где кроется избыток

«Хумаш Коль Менахем»: Что ответил Моше