В прошлом году Леонид Шваб стал лауреатом Премии Андрея Белого в поэтической номинации. В случае Шваба можно смело говорить о том, что премия была вручена по совокупности заслуг, и в этом не будет двусмысленности: в сборник «Ваш Николай» (2016) вошли все известные на сегодня стихотворения автора. Леониду Швабу удалось создать своеобразную поэтическую оптику, сквозь которую он смотрит на то, как устроен исторический процесс, и на наше место в нем. Несмотря на то, что выводы здесь почти всегда неутешительны, поэт говорит взвешенно и порой отстраненно:
Расчеты показали что лучше вернуться домой
Ничего здесь не будет ни руды ни породы
Озеро скалы и мох
До ближайшей деревни четыре дня пешего ходу
На возвышениях с южной стороны озера
Мы обнаружили остов гигантской деревянной пирамиды
Древесина истлела в труху
Ветхая конструкция грозила немедленным обрушением
Совершенно пустынные дикие места вокруг
Илья и Марта вдруг поцеловались
Григорий уронил карабин и встал на колени
Я ничего особенного не почувствовал было нестерпимо душно
После мы ни разу не вспомнили о находке
Как будто сговорились вычеркнуть тот день из памяти
Илья и Марта поженились, уехали в Чикаго
Григорий погиб, я потерял всякий интерес к изысканиям
ДЕНИС ЛАРИОНОВ → Открывая вашу книгу, первое что видишь, — датировка после каждого стихотворения. Судя по ним, вы пишете не более трех текстов в год, а раньше было и того меньше. Подобная авторская позиция — скорее редкость сегодня, при том, что ваши слова, так сказать, всегда попадают в цель. Мне хотелось узнать, каковы отношения поэта Леонида Шваба со временем, которое может быть и абстрактной категорией, и данной нам в ощущениях повседневностью?
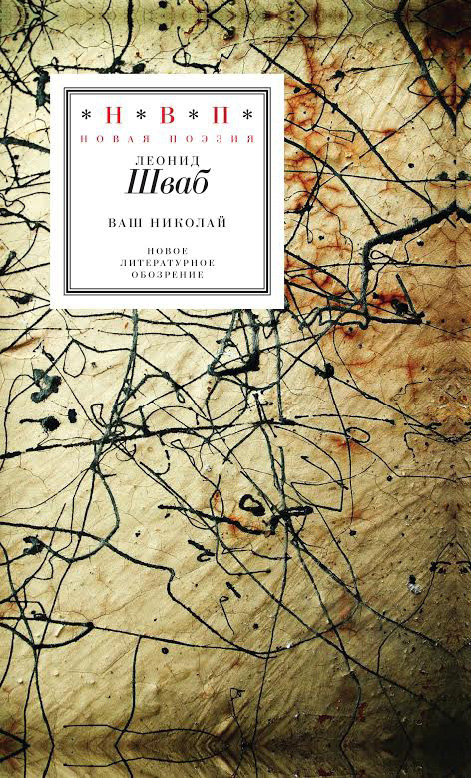
ЛЕОНИД ШВАБ ← В молодости я был уверен, что текст самодостаточен. Я полагал, что ни автор тексту не нужен, ни название — и время, стало быть, ни к чему. Но когда пришлось составлять книжку, я проставил даты — в каких‑то случаях приблизительно, даже интервалом. Я понял смутным образом, что текст намертво привязан к своему часу, это важно хотя бы потому, что мы о времени ничего не знаем, а память у нас короткая и непредсказуемая. Дата, как маячок, как пеленг, — простукивает месяцы и годы назад, меняются дома, прически, манеры, страхи. В своем сочинении автор, как медуза на берегу, — неподвижен и скоро исчезнет. Так бросим возле медузы камешек, чтобы он остался, когда медузы не станет.
ДЛ → Ваша первая книга «Поверить в ботанику» похожа на своеобразное исследование, проведенное ученым‑одиночкой на почти необитаемом острове: вы долго снимали показания сейсмографа и записали в тетрадку. Признаюсь, что для меня эта книга — подвиг и образец того, как ни на йоту не сдвинуться с места, пока исследование не завершено. Но позднее выяснилось, что это исследование‑подвиг оказалось созвучно очень многому и нужно очень многим. Как сосуществуют в ваших текстах линии интровертности и универсальности, всеобщности?
ЛШ ← Подвиг — это все же нечто другое, что‑то целенаправленное, как мне кажется. Исследование — да, верно, пожалуй, но совершенно бессистемное в моем случае, без планирования и конечного результата. Мои герои, надеюсь, не совсем интроверты, скорее растерянны и смущены. Впрочем, говорить о нарративе и героях не приходится, так как самое главное происходит за кулисами и в перерывах. Мне интересна маленькая жизнь, в ней меньше амбиций и пафоса, а значит, меньше фальши. Это очень хорошо видно, к примеру, в талантливой уличной фотографии — когда внешне ничего не значащая картинка вырастает в отдельную планету со своей персональной физикой и этикой.
ДЛ → В эссе и статьях о ваших стихах довольно часто возникает параллель с кинематографом. А как бы вы описали свои отношения с кинематографом и его влияние на вашу поэтику?
ЛШ ← Кинематограф велик максимальной похожестью на реальную жизнь, но чудо нередко происходит именно тогда, когда реальность трещит по швам. Например, в «Зеркале» Тарковского, когда петух разбивает оконное стекло. Или чайка в последнем кадре «Бартон Финк» у Коэнов. Действие продолжается считаные секунды и запоминается без преувеличения на всю жизнь. Но, например, музыке я обязан больше, все же со звука все началось, звуком все и закончится. Когда я вижу симфонический оркестр, я ищу для себя место на сцене, подальше от дирижера. Мне кажется, что я мог бы стать музыкантом при других обстоятельствах, но никак не артистом или режиссером. Монтаж по звуку, не по картинке.
ДЛ → В предисловии к книге «Поверить в ботанику» Мария Степанова пишет о том, что вы «едва ли не единственный литератор русского Израиля, никак или почти никак не эксплуатирующий разнообразные культурные смыслы, которые подсказывает/навязывает такое местожительство». Думаю, все же «почти никак», но возникающие израильские топонимы — лишь часть вывихнутого мира, принципиально не имеющего центра. Насколько подобное «очищение» от культуры важно для ваших исследований?

ЛШ ← Я израильтянин уже столько много лет, что, когда, к примеру, говорю «небо» — это совершенно конкретное иерусалимское небо над долиной Креста, вид из окна. Дерево — это прежде всего олива, гранат, пальма и сосна, именно в таком порядке возле нашего дома со стороны подъезда они и стоят. Книжку после «Ботаники…» я хотел сначала назвать «На вашей улице растут смешные деревья» — в точности так выразилась наша приятельница, когда узнала, где мы живем. Действительно, перед домом растут бутылочные деревья, довольно необычные для Иерусалима. Иллюстрации к книжке я хотел сделать сам, в виде плана некоторых наших улиц и перекрестков. Это все не случилось, но порыв был. Я израильтянин в жизни и стихах, но Маша, конечно, права, культурные смыслы — любые — в моих пространствах значат немного. И география более чем условная, и автор тоже. Когда я сдавал в типографию макет «Николая…», я решил, что тот, кто написал эту книжку, уходит от меня. Он угрюмый, злой, мне было нелегко с ним.
ДЛ → Значит ли это, что в будущем «он» будет преодолевать свою угрюмость? Отразится ли это на вашей поэтике? И как вы разделяете эти инстанции «он‑пишущий» и «он‑кто‑то‑другой»? Как «Леонида по прозвищу Николай» или как‑то иначе?
ЛШ ← Если взять за единицу измерения не книгу, а отдельный текст — тогда других, не таких как ты, станет много больше. Каждый из них напорист и агрессивен, искусство, как известно, всегда агрессия, но из этого не следует, что тирания. Поэтому каждого из других нужно выставить вон, собственно, это противостояние и есть высказывание. Не до поэтики, когда важно лицо не потерять. Сегодня инструментарий, приемы, так называемое мастерство потеряли всякий смысл, потому что художник посреди внешних шумов одинок как никогда. Когда Ирина Врубель‑Голубкина, мой частый собеседник и товарищ, говорит, что мы все равно победим, я неизменно отвечаю — нам нельзя побеждать.
ДЛ → В довольно многих ваших текстах встречается техника или то, что от нее осталось после некоего катаклизма. Также появляются рабочие, отдаленно напоминающие очарованных пролетариев Платонова. Что для вас этот мир техники, призванный созидать, но свидетельствующий о разрушении?
ЛШ ← Я же он и есть, очарованный пролетарий, буквально. В иерусалимском музее ислама есть уникальная коллекция карманных часов, я могу часами всматриваться в сплетение зубчатых колес, червячных передач, камней и стрелок. Здравый смысл очень похож на точную механику, вот в чем дело. Здравый смысл требует ухода, иначе ржавчина остановит движение. Именно это сейчас в стихах и происходит, на мой взгляд, то есть движение замедляется после расцвета нулевых. Резко и, может быть, безнадежно устарели привычные внешние формы — литературный журнал, критическая статья, антология. Книжка остается последним бастионом, в книгу я верю. Я думал о всеобщем моратории на художественное высказывание, хотя бы на год, — совершенно дикая и невозможная мысль, но мне кажется, что мы все смогли бы осмыслить в тишине, что с нами происходит.
ДЛ → Обращено ли ваше письмо к историческому горизонту?
ЛШ ← Исторические горизонты прекрасно обходятся без нас. Когда заговариваешься, бормочешь, адресата не существует. Есть такие слова, как, например, «произведение» или «писатель», которые при повторении начинают звучать «как тебе не стыдно».
ДЛ → Кого бы вы могли назвать предшественниками, в русской и мировой литературе?
ЛШ ← Мальчиком лет шести я видел цыгана в костюме с золотым галстуком. Это был серый день, серая улица, и вдруг навстречу выплывает цыганская компания — яркая, шумная, и один из них, натурально, сверкает золотым галстуком прямо в небо. Вряд ли он имел отношение к литературе. Потом уже были Пушкин и Гоголь, Лесков и Чехов, Стивенсон, Платонов, Зощенко, Пастернак, Введенский, Хармс, Акутагава, Галчиньский, Сатуновский и много других великих славных имен. Но цыган в золотом галстуке был первым, я его никогда не забуду.
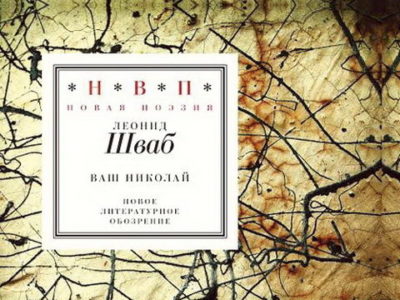
Долгая жизнь в полях на деле беспросветна и пуста

Лев Рубинштейн, собиратель камней

