Легенда о невиновности
Материал любезно предоставлен Tablet
Военное прошлое Франции по‑прежнему занимает умы и разделяет общественность. Неудачная президентская кампания Эрика Земмура подчеркнула этот факт, воскресила легенду о невиновности Франции, в том числе о непричастности ее к Холокосту, и спровоцировала ожесточенные споры о последствиях режима Виши. Земмур, потомок алжирских евреев, ссылался на устаревшие, ошибочные исторические свидетельства, дабы доказать, что режим Филиппа Петена и сам маршал спасали французских евреев от депортации. Земмур утверждал, что марионеточный режим Виши всего лишь сотрудничал с нацистами. Земмуру (ранее он сомневался в невиновности Дрейфуса) исторические факты и стремление официально увековечить память о Холокосте мешают осуществить план возрождения нации. Он хочет заменить чувство вины гордостью, размышления о былых ошибках — осознанием превосходства Франции.

И он в этом не одинок. В некоторых французских школах уроки памяти о Холокосте стали яблоком раздора: арабы‑мусульмане отказываются посещать эти занятия. Вместе с тем сторонники постколониализма утверждают, что избыточное внимание к истреблению евреев препятствует осмыслению европейского империализма, новейшим воплощением которого служит еврейское государство.
Но факты есть факты: в концлагерях сгинули nacht und nebel 75 тыс. французских евреев. Историки продемонстрировали в душераздирающих подробностях, как вишистский режим придумал и организовал антисемитскую кампанию преследования и содействовал нацистам в «окончательном решении еврейского вопроса». Большинство ученых утверждают, что ни одно преступление не сравнится с Холокостом в жестокости, целенаправленности и масштабе убийств.
С 1960–1970‑х годов Франция сделала немало для переосмысления своего прошлого. Сразу после войны возникли противоборствующие нарративы о политике государства в военные годы: все эти нарративы оправдывали французское общество. Участники Сопротивления утверждали, что Петен узурпировал власть и вишистский режим не имел права представлять Францию. Малочисленная шайка негодяев радовалась поражению и сажала подпольщиков и евреев в поезда на восток. Высокопоставленные коллаборационисты, такие как Петен и Пьер Лаваль , рассказывают иную историю — но и та оправдывает народ. Режим Виши встал между германскими оккупантами и французским обществом как щит. Коллаборационизм облегчал тяготы оккупации, в том числе и для евреев: власти негласно спасали их, для вида продолжая сотрудничать с врагом.

В 1960‑х и 1970‑х годах появились художественные произведения и научные исследования, ниспровергавшие обеляющие построения послевоенных лет. Книги Роберта Пакстона «Вишистская Франция: старая гвардия и новый порядок» (Vichy France: Old Guard and New Order) и его же «Вишистская Франция и евреи» (Vichy France and the Jews, в соавторстве с Майклом Маррусом) развеяли многие утешительные иллюзии. В 1990‑х состоялся суд над Рене Буске и Морисом Папоном, известными коллаборационистами. В 1995 году президент Жак Ширак признал роль французского государства в Холокосте и тем самым, казалось, разрешил разногласия. Теперь Франция на основе исторических фактов могла выстроить новый консенсус по вопросам памяти, а поскольку старшее поколение умирало, то и проблема понемногу теряла остроту.
Но провокации Земмура продолжаются, а banlieues по‑прежнему откликаются на них. Консенсус по вопросам памяти, сам по себе относительно недавнего происхождения, уже не пользуется всеобщей поддержкой. А кое‑кому, пожалуй, даже представляется мнением элит. Французские евреи, хранители памяти о Холокосте в эпоху крайностей, оказались в щекотливом положении.
После освобождения французы столкнулись с юридическими и нравственными вопросами, касающимися коллаборационизма. Шарль де Голль и участники Сопротивления считали, что действия режима Виши не имеют законной силы: де Голль даже отказался объявлять новую республику, поскольку, по его словам, прежняя не перестала существовать. Режим Виши он считал шайкой узурпаторов, предателями, а не законными представителями народа. Де Голль придерживался этого мнения, несмотря на то, что в июле 1940 года депутаты французского парламента проголосовали за отмену республики
. Убеждения де Голля внесли свою лепту в консенсус по вопросу памяти, который освободил французский народ от ответственности за преступления вишистского режима и за Холокост. В мемуарах де Голль не раз приводит этот аргумент: Виши — не Франция —
и веско добавляет: «Франция без величия — не Франция».
Жан‑Поль Сартр, хоть и придерживался диаметрально противоположных политических взглядов, тоже считал коллаборационистов маргиналами, чуждыми национальной общности. В эссе «Кто такой коллаборационист?» Сартр утверждает, что они составляли от силы 2% общества, тогда как «почти все рабочие и почти все крестьяне участвовали в Сопротивлении». Коллаборациониста он представляет «изгнанником в своей стране», не сумевшим «устоять перед притягательностью иностранной общины» из‑за отсутствия «подлинной связи с современной Францией». В оценке коллаборациониста Сартр не чурается тонкостей: коллаборационист отличается от фашистов и attentistes , сторонников политики выжидания, которые втихомолку поддерживали Петена. При этом он изображает коллаборациониста изгоем, чьи решения скорее вызваны изменениями личности, нежели изъянами национального характера.
В послевоенной Франции легенду о невиновности поддерживали и бывшие участники режима Виши. Во время судебных процессов над высокопоставленными чиновниками правительства Петена, в том числе над самим Петеном и Пьером Лавалем, их адвокаты утверждали: коллаборационизм был единственным способом смягчить жестокость германских оккупантов. Кое‑кто настаивал, что режим Виши старался защитить французских евреев и лишь благодаря ему уцелели три четверти довоенного еврейского населения. Так родилась легенда о щите и мече: якобы Петен и чиновники Виши, оставаясь во Франции, предотвратили худшие последствия оккупации (щит), а де Голль и участники Сопротивления, обосновавшиеся в Лондоне, продолжали борьбу за границей (меч).
«История Виши» (Histoire de Vichy, 1954) Робера Арона — первая попытка написать всеобъемлющую историю Франции военных лет. Писателя, чьи произведения выдают в нем скорее беллетриста, нежели профессионального историка, интересуют в основном высокая политика и дворцовые интриги. Арон, сам жертва антисемитских законов режима, стремился занять положение добросовестного посредника между сторонниками и хулителями Виши, однако и он принял как должное легенду о щите и мече. Вину за злодеяния режима Арон возлагает на помощников маршала, в частности на министра иностранных дел Лаваля и министра юстиции Рафаэля Алибера. Петен у Арона предстает фигурой трагической: служение своему народу было главным для этого политического деятеля, но всё исказили события в мире. Арон утверждает, что Франции был нужен и Петен, и де Голль: «Оба были в равной степени необходимы Франции». Согласно цитате, которую изначально приписывали Петену, а потом де Голлю, «маршал был щитом, генерал — мечом». И даже искусный манипулятор Лаваль — Арон приписывает ему ответственность за падение Третьей республики — на деле не так уж виновен. Арон приводит отрывок из печально известного заявления министра (в котором тот желал победы Германии) и отмечает, что «Лаваль использует слова настолько провокационные, что их ничем не сотрешь, потому что он считает их полезными, — пожалуй, в конце концов он больше поплатится именно за эти слова, чем за соответствующие действия». Вожди Виши, возможно, заблуждались и страдали манией величия, однако радикальное зло той эпохи зародилось где угодно, но только не в их рядах.
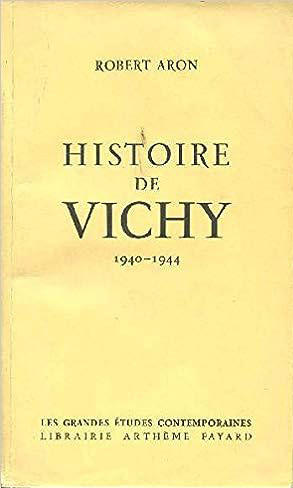
Примерно в том же духе Арон рассматривает и феномен сотрудничества с нацистами: в интересах Франции Петен придерживался среднего курса, лавировал меж союзом и открытым сопротивлением. Арон видит режим Виши сквозь розовые очки и сквозь них же смотрит на антисемитские законы нового французского государства. Поначалу кажется, историк‑любитель относится к антиеврейским устремлениям режима неодобрительно: он признает, что законы появились по инициативе французских властей, что Петен ужесточил положения, согласно которым евреям запрещалось заниматься преподавательской и юридической деятельностью, что пункты, кого считать евреем, в Statut des Juifs оказались жестче, чем в Нюрнбергских расовых законах, что закон был основан на имплицитной расовой классификации, хоть французы и настаивают, что их антисемиты преследовали евреев исключительно по религиозному или национальному признаку.
При этом Арон утверждает, что антисемитские законы режима Виши избавили евреев в северной зоне оккупации от более суровых германских законов. И сразу противоречит себе: германская военная администрация, по его словам, установила собственные антисемитские правила. Тем не менее — как уверяет читателей Арон, не имея тому никаких доказательств, — французский закон предотвратил облавы на евреев на северных территориях. Арон признает, что антисемитский закон в свободной зоне выражал присущий французам антисемитизм, однако измышляет хитроумное объяснение: мол, эти дискриминационные законы не были направлены на отдельных лиц и их имущество. И вновь враждебность французского государства отходит в трагедии евреев на второй план; Арон высказывает неубедительное предположение, будто бы Statut des Juifs режима Виши «преградил путь злодеяниям, которые германцы после оккупации южной зоны вершили бы по всей стране».
И даже когда замаячило «окончательное решение еврейского вопроса», утверждает Арон, режим Виши по‑прежнему относился к евреям более или менее благожелательно. Он сделал все возможное, дабы предотвратить массовую депортацию евреев, — вплоть до того, что подтасовывал статистику, а если высылки было не избежать, выдавал нацистам только иностранных подданных и лиц без гражданства. Французское государство запятнало себя этим неприглядным делом. Но в истреблении десятков тысяч французских евреев режим Виши играл лишь эпизодическую роль без права голоса. И должно было пройти еще два десятка лет, прежде чем более тщательные исследования опровергли эти тезисы.
Послевоенная конструкция памяти, как ни старались первые историки того периода ее укрепить, была построена на песке. Еврейские голоса, поначалу слабые и робкие, вносили диссонанс в песнь о невиновности французов. Евреи, бежавшие из Германии во Францию, не могли не помнить, что Марианна не спешила раскрыть им объятия. 1930‑е вытеснили их из общества, превратили в людей sans feu ni lieu , полунелегальных обитателей парижских ночлежек. Когда германская военная машина катила к французской столице, власти приказали интернировать тысячи евреев как «подданных враждебного государства». Франко‑германское перемирие, подписанное через несколько недель, предоставило Третьему рейху право экстрадировать этих самых узников. «Истоки тоталитаризма» Ханны Арендт изобилуют отсылками к этой ситуации. В частности, внимание читателя привлекает описание миазматического воздействия антисемитизма нацистов, которое ощущалось как в демократических, так и в фашистских державах. «Денационализация стала мощным оружием тоталитарной политики, — вспоминает Арендт, — дала возможность правительствам‑угнетателям навязывать свои ценностные стандарты даже своим противникам. Те, кого гонитель избрал на роль отбросов общества — евреи, троцкисты и т. д., — практически везде принимались как отбросы» .
В послевоенные годы на то, что евреям пришлось пережить, почти не обращали внимания. В конце концов, преследовали и депортировали не только французских евреев. Сартр в эссе «Бытие и ничто» написал памятную фразу: «Нас массово депортировали как рабочих, как евреев [и] как политзаключенных» . Французское общество и государство, будь то в вопросах реституции или увековечения памяти, не желало признавать особый характер еврейской катастрофы. Мод Мэндел в книге «Последствия геноцида» (The Aftermath of Genocide), опыте реконструкции французского еврейства, отмечает: власти опасались, что избыточные средства правовой защиты увековечат расовые классификации режима Виши. Из этих же соображений министр внутренних дел Франции приказал уничтожить официальные документы с описанием этнорасовых характеристик граждан, но приказ этот в конце концов отменили ради реституции в интересах евреев. Сразу после войны французские евреи тоже поддерживали новую республику и подчеркивали, что они члены общества.

Относительное молчание выживших также следует осмыслять в контексте травмы и практически невыразимой природы лагерного опыта. В конце 1990‑х годов французская Ассоциация памяти о депортации собирала устные свидетельства, и Эдит Давидович выразила общие чувства: «О том, что было, я ничего не могла сказать даже родителям. Я не проронила ни слова, — вспоминала она. — Как могла я, не нарушая благопристойности, описать несчастья, выпавшие нам на долю?» И французское общество тоже либо не верило жертвам, либо не желало их замечать. Давидович вспоминает, как встретила в парижском метро торговца рыбой, и тот, узнав, что она вернулась из Аушвица, воскликнул: «Надо же! Выглядите хорошо. Вам, должно быть, неплохо там жилось».
Французские СМИ лишь изредка сообщали о возвращении тех считанных тысяч депортированных евреев, кому удалось выжить в лагерях. Всем возвратившимся власти предоставляли одинаковую материальную помощь, хотя евреи лишились и родных, и имущества. Чиновники зачастую отказывались возвращать евреям недвижимое имущество, боролись с новыми ассоциациями, представлявшими законных владельцев отнятой недвижимости, фирм, другой собственности. Франция в этом смысле представляла не исключение, а правило: в послевоенные годы голоса выживших были практически не слышны. Большинство знаменитых воспоминаний о Холокосте («Ночь» Эли Визеля, «Человек ли это?» Примо Леви) появилось лишь в 1950–1960‑х годах.
Люди искусства, а не ученые — вот кто пробудил память о Холокосте во Франции. И решающую роль в этом сыграли фильмы Жан‑Пьера Мельвиля, Марселя Офюльса и Джозефа Лоузи.
Кинокартины Мельвиля ознаменовали переход от легенды о Сопротивлении к более взвешенному изображению тех лет. Мельвиль, урожденный Жан‑Пьер Грюмбах, участник «Свободной Франции» , вынужденный бежать в Лондон, прославил дух Сопротивления в первом фильме об оккупации, «Молчание моря» (La silence de la mer). Фильм по одноименному роману Веркора , снятый в 1947 году и вышедший на экраны в 1949 году, представляет собой притчу о французской стойкости под гнетом нацистов. В дом к старику и его племяннице определяют на постой германского офицера, и они демонстративно не замечают его присутствия. Франция, поруганная и безоружная, противостоит врагу упорным молчанием.

В фильме «Леон Морен, священник» (1961) Мельвиль предвосхитил перемену в отношении Франции к Холокосту. Действие картины разворачивается в горной деревушке во время оккупации, главный герой, священник, становится directeur de conscience для Барни, вдовы еврея‑коммуниста. Морен милосерден, он помогает местным евреям, проповедует Евангелие. Однако большинство персонажей изображены в оттенках серого. Кристин, коллега Барни, боготворит Петена и не скрывает, что охотно сотрудничала бы с немцами. Кристин допускает антисемитские высказывания и, похоже, готова донести на Барни оккупационным властям за то, что та прячет евреев. Правда, Кристин оказывается более сложным персонажем и в конце концов женщины становятся наперсницами. Кристин считает коллаборационизм «единственной возможностью для Франции уцелеть», а сопротивление — бесполезной «тягостной местью, и только». Барни пылко парирует: «Иными словами, вы, католичка, согласны, чтобы мою дочь депортировали и вашей досталось ее молоко?» Кристин отвечает: приходится мириться с депортацией евреев, чтобы не пришлось «приносить в жертву» свой народ. Кристин, безусловно, не принадлежит к нации 40 млн участников сопротивления, но она и не кровожадная фурия, готовая предать нацию оккупантам. В образе Кристин и других персонажей Мельвиль отказывается от простых противопоставлений послевоенных лет.

Критическое переосмысление той поры в фильмах французских режиссеров достигло апогея в 1960‑х и 1970-х годах. «Печаль и жалость» (1969) Марселя Офюльса, четырехчасовой документальный фильм, изначально снятый для французского общественного телевидения, подверг резкой критике консенсус по вопросам памяти. Офюльс — его отец‑режиссер, немецкий еврей, сперва бежал во Францию, а потом обосновался в Соединенных Штатах — с помощью интервью, кинохроники и других средств зрительной информации продемонстрировал, что некоторые французы активно поддерживали режим Виши и даже нацистскую Германию. Французские власти на десять лет запретили транслировать фильм по телевидению, но благодаря ограниченным показам тот все равно проник в общественное сознание. «Месье Кляйн» (1976) — помогли и участие звезды, Алена Делона, и бюджет в несколько миллионов долларов — закрепил основную мысль «Печали и жалости». Картина привлекает к ответственности Францию и французов за содействие «окончательному решению еврейского вопроса». Принадлежащий к парижскому бомонду месье Кляйн, торговец произведениями искусства, пользуясь положением клиентов‑евреев, скупает у них шедевры по дешевке. Главными злодеями в фильме выведены французы: зрители видят, как доктор‑француз — якобы для «антропометрического» осмотра — хватает за грудь еврейку, а та сидит ни жива ни мертва; как французская полиция планирует и проводит облаву «Вель д’Ив» ; как французские власти присваивают имущество евреев.
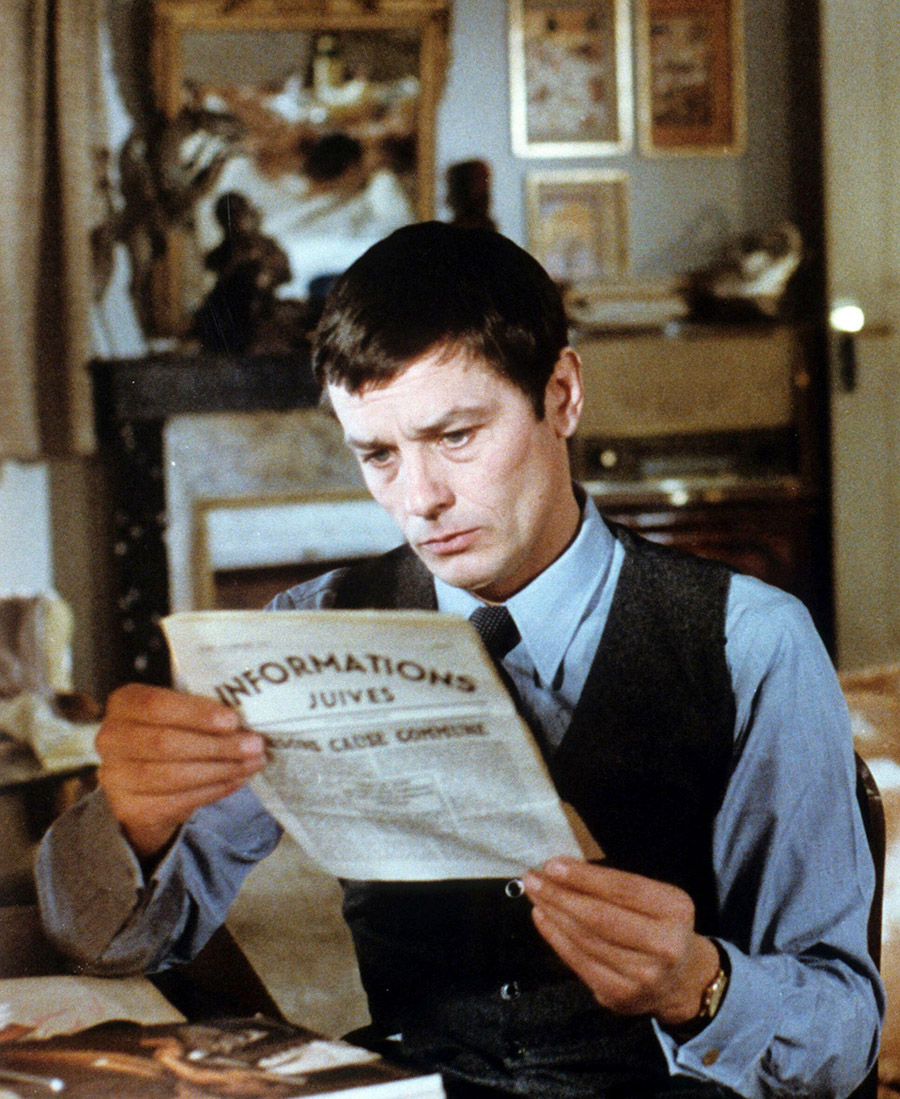
К тому времени, как «Месье Кляйн» вышел на экраны, французское соглашение по вопросам памяти уже было разорвано. Бурные потоки общественных перемен, отметившие 1960-е, смыли неискренние разглагольствования предшествующих десятилетий. Демонстранты уподобляли французскую полицию СС, а пожилого де Голля — Гитлеру. В разгар суда на Эйхманом и Шестидневной войны росло и еврейское самосознание, заговору молчания пришел конец, узники Холокоста начали рассказывать о пережитом и родным, и широкой публике. Франция переживала, пользуясь фрейдистской терминологией историка Анри Руссо, «возвращение вытесненного».
В 1960‑х выходили и серьезные научные исследования. Начиная с этого десятилетия Ольга Вормсер‑Миго опубликовала ряд знаковых работ. В 1968 году вышла ее книга «Система нацистских концлагерей, 1933–1945» (Systeme concentrationnaire nazi, 1933–1945). На основе документов на французском и немецком языках Вормсер‑Миго создала хронику концлагерей нацистской Германии. Исследовательницу больше занимают сама идея концлагерей и ее воплощение, нежели коллаборационизм французов, тем не менее Вормсер‑Миго посвятила раздел книги сотрудничеству режима Виши с оккупационными властями. Еще один раздел описывает участие в депортациях руководства Национальной компании французских железных дорог (SNCF). Вот в какой обстановке в дебаты вступил Роберт Пакстон.
Роберт Пакстон, историк из Колумбийского университета, основывал новый консенсус по вопросам памяти, сложившийся в 1970‑х, на эмпирических доказательствах. Он не только отверг старую легенду о невиновности, но и отыскал новый подход к истории военных лет в двух своих основополагающих трудах, «Вишистская Франция: старая гвардия и новый порядок» и, в соавторстве с Майклом Маррусом, «Вишистская Франция и евреи».
Революция в историографии, совершенная Пакстоном, основывалась на новаторских методах. Прежде большинство исследований о режиме Виши и Холокосте во Франции черпало материал из франкоязычных источников: официальных документов, свидетельств участников Сопротивления, показаний на послевоенных судебных процессах, воспоминаний жертв и преступников. Пакстон добавил к этому новый важный источник знаний: документы нацистского режима. В конце войны американские военные захватили большую часть архивов Третьего рейха и передали в Библиотеку конгресса. Таким образом, Пакстону удалось, помимо прочих, изучить документы военной администрации оккупированной Франции, дипломатическую переписку между Парижем и Берлином, протоколы франко‑германской комиссии по перемирию, заседавшей в Висбадене. Эти документы позволили опровергнуть сложившиеся за долгие годы взгляды на природу режима Виши и официальную политику коллаборационизма. В предисловии к книге «Вишистская Франция: старая гвардия и новый порядок» (1972) Пакстон прямо опровергает тезисы Арона и легенду о щите и мече.
Пакстон не согласен с мнением, что эту легенду (он называет ее теорией двойной игры) якобы исказили после освобождения Парижа. Когда Франция пала, никто не мог предвидеть, что союзники одержат победу. Теорию двойной игры, лишенную какой‑либо исторической достоверности, изобрели в качестве официальной линии защиты на послевоенных судах над пособниками нацистов.
Историку пришлось обратиться к хаосу лета 1940‑го, дабы понять дух возникшего режима Виши. Режим оказался легитимнее лондонского Сопротивления де Голля, разношерстной компании маргиналов. Легитимность Виши подтверждалась юридическим одобрением: за новый порядок проголосовал парламент. Французские власти полагали, что война скоро закончится, поскольку Великобританию поставили на колени, и лишь сотрудничество с нацистами, новыми хозяевами Европы, способно гарантировать Франции приемлемый общественный порядок. Таким образом, режим Виши искал экономического и политического сотрудничества с немцами, а не просто шел на уступки. Соратники Петена не стремились к геостратегическому равновесию; скорее, они оценивали исход войны и вдобавок хотели отомстить своим врагам — политикам левого толка. Но сотрудничество с нацистами не принесло французам особой выгоды, и это было еще хуже для защитников теории щита, пишет Пакстон. Среднее потребление калорий во Франции было одним из самых низких в Европе, поскольку Германия конфисковала сырье, продовольствие и производственные мощности. Утверждение Виши, что коллаборационизм якобы смягчил для обычных граждан тяготы оккупации, практически не имеет основания.
В следующее десятилетие Пакстон оставался белой вороной среди историков: в 1981 году он опубликовал исследование «Вишистская Франция и евреи» (оно практически одновременно вышло на английском и французском языках). Книга, написанная в соавторстве с канадским ученым Майклом Маррусом, опровергала основополагающее утверждение легенды о щите и мече, то есть что режим Виши якобы защищал французских евреев.
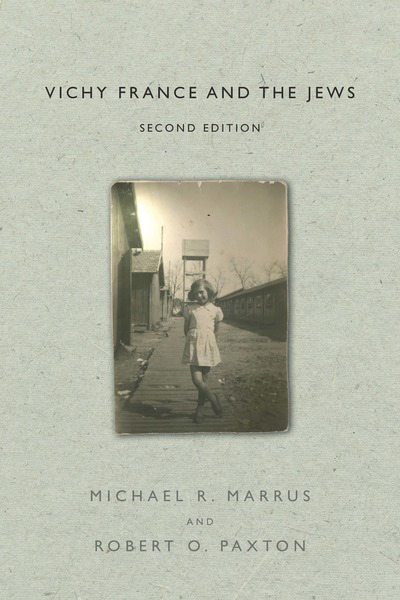
«Вишистская Франция и евреи» доказывает, что программу антисемитских преследований новая власть приняла по собственному почину, а вовсе не по приказу нацистов. Маррус и Пакстон отмечают, что в начале оккупации победители предоставили режиму Виши свободу действий в том, что касалось евреев. По словам историков, французские власти предпочли «собственную программу, и она не уступала бесчинствам, которые немцы творили на оккупированном севере Франции, а кое в чем и превосходила их». У действий режима Виши было две причины: первая давала выход издавна свойственному французам антисемитизму, который с падением республики лишь окреп, а вторая проистекала из прагматичного желания утвердить суверенитет Франции на оккупированном севере посредством принятия антиеврейских мер.
При этом Маррус и Пакстон признают: законодательство режима Виши не было направлено на убийства, однако, по их словам, это ничего не значит — и в относительном, и в абсолютном выражении. Болгария и Франция — единственные государства, выдававшие евреев с территорий, не занятых нацистами. Правительство Виши также приняло меры, которые помогали германцам уничтожать евреев, в частности организовало перепись населения в южной части страны и обязало французских евреев ставить в документы соответствующие отметки. Щит Виши стал не защитой, а скорее первым залпом в кампании по уничтожению евреев. И досье у режима намного хуже, чем у ряда других зависимых государств и союзников Германии, таких как Венгрия, где массовая депортация началась лишь непосредственно после оккупации.
Работы Пакстона изменили систему представлений, и последующие десятилетия ознаменовались всплеском интереса к теме преследования евреев режимом Виши и роли французского государства в «окончательном решении еврейского вопроса». Этот интерес, для Анри Руссо граничивший «с одержимостью», породил массу исследований на самые разные темы, в том числе об участии работников французских железных дорог в депортациях, довоенных прецедентах интернирования евреев и других национальных меньшинств, о способах, с помощью которых французским евреям удавалось противостоять дискриминации и избегать смерти. Исследования Пакстона, легшие в основу нового консенсуса по вопросам памяти, способствовали тому, что правительство Франции признало ответственность государства за убийство десятков тысяч евреев.

Бывший президент Жак Ширак принес официальные извинения за роль Франции в Холокосте, и это ознаменовало победу нового консенсуса, подтвердило важность не только научных исследований, но и заслуг активистов, таких как Серж и Беата Кларсфельды , и свидетельств узников Холокоста, отважившихся заговорить в полный голос. Выступая в 1995 году на торжественной церемонии в память об облаве «Вель д’Ив», во время которой французские полицейские в 1942 году схватили тысячи евреев (впоследствии их депортировали), Ширак произнес историческую фразу: «Французы, французское государство поддержали преступную манию оккупантов». Ширак выразил сожаление, что Франция, «эта страна прав человека», нарушила свое слово и «передала тех, кого должна была защищать, в руки палачей». Выступление Ширака положило конец общественной дискуссии о природе отношения вишистского режима к евреям. Правда, до сих пор отыскиваются желающие опровергнуть выводы Пакстона, причем отыскиваются порой в самых неожиданных местах.
Так, основополагающие изыскания Марруса и Пакстона ставит под сомнение кое‑кто из ученых, придерживающихся укоренившихся взглядов. В исторической науке бушуют споры о политике Франции времен Второй мировой войны и участии государства в Холокосте. Однако исследования, как правило, проходят в рамках парадигмы, заданной Маррусом и Пакстоном. Общественное мнение пришло к консенсусу по историческим вопросам, но, возможно, ситуация переменится.
Нескончаемые перипетии, связанные с иммиграцией, интеграцией и идентичностью, вдохнули новую жизнь в политические крайности. Память о Холокосте не дает покоя ни ультралевым, ни ультраправым. Рост критики постколониализма среди левых создал то, что подчас называют соревнованием в памяти: якобы сосредоточенность на Холокосте как истинном геноциде мешает публике заметить зверства в странах третьего мира. Избыточное внимание к Холокосту заслоняет империалистические преступления Европы и служит прикрытием для Государства Израиль: его обвиняют в том, что оно проводит жестокую политику колониализма. Ярче всего этот ревизионизм проявляется в Европе и конкретно в Германии, где, по словам французского философа Юлии Кристевой, разразился «скандал новых историков». Кое‑кто из левых мыслителей в ходе этой полемики ставит Холокост в один ряд с прочими зверствами европейского империализма (последнее из них — политика Израиля по отношению к палестинцам).
Со времен второй интифады учителя во Франции отмечают схожие настроения в школах, расположенных в тех предместьях Парижа, где живут арабы‑мусульмане. Ученики на «утраченных территориях республики» порой агрессивно реагируют на попытки рассказать им о Холокосте. Некоторые ученики заявляют, что евреи виновники геноцида, а вовсе не жертвы. Некий учитель в статье, опубликованной в левой ежедневной газете Liberation в период второй интифады, рассказал, что кое‑кто из его учеников одобряет Гитлера. «Гитлер мне родня, — заявил один ученик. — Так и надо с этими евреями!» Его одноклассники потешались над фотографией еврейского ребенка, вынужденного во время оккупации носить желтую звезду. Память о Холокосте в представлении упомянутых выше учеников и мыслителей постколониализма не что иное как обман, навязанный элитой, и государственный фаворитизм по отношению к евреям.
Ныне ультраправый политик Земмур опасается, что признание неправедного прошлого лишит нацию жизненной силы, сделает Францию уязвимой перед двойной угрозой — grand remplacement (демографического перехода) и grand déclassement (потери статуса великой державы). Он превозносит труды довоенных историков‑националистов, например Жака Бенвиля. Историк для него не столько ученый, сколько создатель полезного образа прошлого. И действительно, во многих странах Европы память о погибших евреях и истории Холокоста считают помехой для национального мифа.
Действия Земмура следуют логике националистов, отказывающихся признавать вину за военные преступления. Его союзники в Венгрии и Польше, где правят национал‑популисты, избрали такую же линию поведения. И эти государства твердят о своей непричастности к Холокосту, возлагая вину за него целиком на Германию. Польское правительство проводит политику памяти, в частности строит музеи, посвященные полякам, «спасавшим» евреев, объявляет незаконными любые разыскания, которые могут доказать причастность поляков к «окончательному решению еврейского вопроса», и возбудило ряд дел против польских историков, изучающих войну и уничтожение евреев. Правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном пошло по тому же пути. Отчасти этот выбор напоминает отношение коммунистов к Холокосту и ужасам войны: считалось, что «народ» как нечто целое был жертвой безликой массы «фашистов».
Французские историки решительно выступили против свойственного Земмуру искаженного толкования Холокоста. Ведущие СМИ опубликовали массу статей с опровержениями; ученые старшего поколения вышли на арену, дабы бороться с возвращением теории щита и меча. France Culture, одна из главных государственных радиостанций страны, опубликовала длинное досье под названием «Ложь Земмура о Петене и Виши». Роберту Пакстону, бывшему преподавателю Колумбийского университета, на тот момент было за девяносто, но он вернулся в строй, дабы опровергнуть утверждения Земмура, и в декабре 2021 года — в порядке исключения — дал интервью газете Le Mond. В видеоразговоре с репортером Пакстон подтвердил свои изыскания 1970‑х и 1980‑х годов. Он утверждал, что режим Виши с невиданной прытью сформулировал и претворил в жизнь собственные антисемитские законы. И то, что три четверти французских евреев уцелели, объясняется скорее скудными средствами германских оккупантов, нежели спасительным отсутствием рвения у Виши. В завершении видеоинтервью Le Mond указала читателям на основополагающие труды авторитетных французских историков Холокоста.
На выборах Земмур проявил себя как сверхновая звезда : вступил в президентскую гонку с 15% голосов (по данным социологических опросов), но в итоге набрал всего лишь 7%. Он заслужил насмешки за то, что пребывает в блаженном неведении относительно исторических фактов и повторяет устаревшие наветы. Но мы живем в эпоху, изобилующую лицемерием и ложью. Почему же Холокост заставил ведущих французских деятелей политики, науки и СМИ сплотиться и ударить по праворадикальному полемисту?
Элита использует Холокост в собственных целях — вот ответ. «Уроки Холокоста» стали символом веры среди европейских элит. Политики‑центристы пускают в ход память о Холокосте как оружие в борьбе с соперниками — и правыми, и левыми. Программу национального возрождения и ужесточения контроля на границах осуждают как разновидность неофашизма. Принято считать, что Марин Ле Пен и Эрик Земмур не усвоили предполагаемые уроки Холокоста — в данном случае необходимость радушно принимать чужаков. И если кого‑то из них изберут президентом, самые мрачные эпизоды истории XX века грозят повториться. Центристы вещают и об опасности ультралевых: радикальные политические методы могут перерасти в массовое насилие и геноцид.
Европейские высокопоставленные чиновники зачастую используют обвинения в антисемитизме и отрицании Холокоста, дабы заткнуть рты несогласным и дискредитировать оппонентов. Президент Макрон часто прибегал к этому средству, последний раз во время протестов против ковидных пропусков. Сотни тысяч высыпали на улицы, чтобы протестовать против этого насильственного метода: каждый человек был обязан сканировать QR‑код, содержащий данные о вакцинации, при входе в рестораны, театры, поезда дальнего следования и прочие места общественного пользования. Некоторые демонстранты нацепили желтые звезды с надписью «не вакцинирован», проведя тем самым оскорбительную параллель между французским государством и режимом нацистов. Помощники Макрона не преминули изобразить движение в целом как радикальное и антисемитское, побуждая тех, кто пережил Холокост, осудить и протестующих против ковидных пропусков. Совет еврейских организаций Франции (CRIF) и Международная лига против расизма и антисемитизма (LICRA) выступили с собственными обвинениями. Точно так же развивались события и во время протестов gilets jaunes в начале президентства Макрона: в толпе было несколько антисемитов, и это позволило элите обвинить движение в целом.
Французские евреи не должны становиться пешками власти. Макрон использует в своих интересах антисемитизм и память о Холокосте, и это опасно. Еврейским общинам не следует связываться с истеблишментом, который на Западе многие ругают. Традиционные политики смешивают антисемитизм и недовольство, и это может выйти боком европейским евреям. Протестующие скорее примут антисемитизм, чем преодолеют недовольство. И Европа станет свидетельницей возвращения довоенной политики: тогда враждебное отношение к евреям и либеральное государство стали взаимосвязаны.
Еврейские организации должны отыскать равновесие: смиряться с фальсификацией истории недопустимо. Отрицанию Холокоста нужно дать достойный отпор. Но признание французским обществом своей роли в Холокосте запоздало, было спущено сверху, основывалось на произведениях искусства и научных трудах. Настаивать на фактах прошлого не значит навязывать их истолкование, препятствующее политическим дебатам.
Французские еврейские организации слишком часто покупаются на инвективы традиционных партий, как ультралевых, так и ультраправых, а именно «Непокоренной Франции» Жан‑Люка Меланшона и «Национального объединения» Марин Ле Пен. В 2018 году Франсис Калифат предупредил представителей «Непокоренной Франции» и «Национального объединения», что не стоит ходить на марш в честь Мирей Кнолль, узницы Холокоста, убитой в восемьдесят с лишним лет лишь за то, что она еврейка. Меланшон и Ле Пен дают CRIF повод задуматься, и вполне справедливо. Но вряд ли стоит прибегать к херему во взаимоотношениях с партиями, набравшими 45% голосов в первом туре президентских выборов. Французские евреи должны быть гибкими. Ведь перед ними стоит выбор: приспособиться к радикальным политическим методам — или стать их жертвой.
Оригинальная публикация: A Legend of Innocence

The Times of Israel: Подростки помогали развернуть французское Сопротивление в ходе Второй мировой войны

Было ли французское Сопротивление еврейским?

